
Шептуны
2 поста

2 поста

2 поста

2 поста

3 поста

2 поста

2 поста

8 постов

12 постов

2 поста

3 поста

2 поста

2 поста

4 поста

25 постов

3 поста

5 постов

4 поста

3 поста
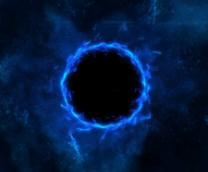
2 поста

2 поста

3 поста

5 постов

2 поста

2 поста

7 постов

2 поста

3 поста

3 поста

3 поста

3 поста

2 поста

3 поста

3 поста

3 поста

4 поста

2 поста

5 постов
Надежда Ивановна была из той редкой категории бабушек, которым и в восемьдесят лет не сидится на месте. Она вставала ни свет ни заря, пила крепкий чай, обязательно с малиновым вареньем для вкуса, варила яйцо всмятку и делала гренки, что составляло весь её завтрак. Как считала Надежда Ивановна, в раннем завтраке и скрывался рецепт её долголетия и бодрости. До девяти утра она привычно убиралась в квартире, вытирала пыль и стирала. Затем заплетала седые волосы в косу, закручивала гульку на затылке и, одеваясь понаряднее, собиралась на подработку.
Работала она у частника на рыночной площади, уборщицей в офисных помещениях. А что – работа не сложная, грех жаловаться: полы помыть, мусор вынести да в унитазе ёршиком поскрести. Чего не повозиться – в резиновых-то рукавицах? Зато на обновки да сласти денежка имеется, и внучат да правнуков при случае можно побаловать.
О подработке никто не знал: ни дочка, ни внуки. А зачем им лишний раз волноваться? Ведь всё равно не поймут, что ей, как птице в клетке, в квартире не сидится, что не может спокойно жить без дела.
Внуки и правнуки приезжали не так часто, как хотелось бы. К себе тоже не звали, вот и оставалось Надежде Ивановне самой находить, чем заняться, к тому же к скромной пенсии лишняя копеечка никогда карман не жала.
Надежда Ивановна сильно жалела, когда дачу продали, то есть домик её старый, родительский – довоенный, но крепкий, с хорошим участком в двадцать пять соток и близким расположением к городу. Оттого-то и клумбы дворовые при доме подустроила, цветами засадила, лишь бы руки не скучали. А толку... Всё не то.
Вот и сегодня Надежда Ивановна привычно вышла из дома в девять утра, чтобы пешочком дойти до рынка. До работы неспешно она добиралась, минут за тридцать, только в дождь и зимой позволяла себе кататься на автобусе… Чистенький подъезд дома всегда радовал глаз: Надежда же Ивановна еженедельно по пятницам к тому руку прилагала. Вот только… как ни старайся, ни пересаживай и поливай, хоть тресни – не росли цветы на подоконнике.
Соседки-пенсионерки, Лариска да Маруська, сидя на лавочке, часто шептались: во всём виновата Софья Абрамовна со второго этажа, с окнами на задворок, вечно шторами тёмными занавешенными. Шептались, что у женщины глаз нехороший да язык поганый, злющий: чуть что не так – проклянет. Вон, алконавта Мирона со второго подъезда точно она прокляла: неделю мучился, а потом в больнице коньки отбросил. Говорили между собой, что жизни Софье той, завидущей, не будет, коли рядом с ней кто-то хорошо живёт: вмиг из того человека все силы выпьет! Беречься надо, при ней о хорошем в своей жизни помалкивать... Вот только шептались бабки о соседке, когда Софьи-то дома не было, опасались – услышит и, чего доброго, напакостит в отместку.
Злющей и сварливой была Софья Абрамовна. Смуглая до черноты, тучная, с узкими глазами, да ещё прищуривалась с лисьей хитринкой, причём голос становился приторно-сладким, до одуряющей тошноты: заслушаешься – отказать не сумеешь. Не зря ведь Софья Абрамовна на рынке работала и, как шептались старушки, больше всех там получала.
Сплетни да шушуканья Надежда Ивановна страсть как не любила. Стыдно это, не по-божески за спиной косточки перемывать, от таких дел на душе всегда остаток гаденький. Липкий да тягучий, что тот деготь. Однажды она не выдержала, попрекнула тех соседок-старушек, так обиделись: ишь, сразу перестали приглашать на свои посиделки. Ну их в баню.
Надежде Петровне скучать некогда, она в одиночестве гораздо больше вязала да все дела переделывала, а после и книжку какую историческую могла прочитать. Журнальчик «Пенсионерочка» перед сном пролистать или библиотечным романом женским увлечься.
После хороших книг всегда настроение поднималось. Надежда Ивановна уже восьмой десяток разменяла, но это же ещё не старость!.. Главное – есть, для чего жить.
Сегодня подъездные лавочки оказались пусты. Видно, спят ещё кумушки-старушки или вяжут что себе, что внукам, да на продажу, но то редко, чаще ленятся: сериалы смотрят да чаи с пряниками гоняют.
А вон как цветы распустились на клумбах – загляденье. И небо чистое, голубое, не налюбуешься! Без единой пушистой тучки. Воробышки чирикают. По прогнозу, жарко сегодня будет. Значит, вечерком надо цветы в квартире и на клумбах полить и птицам на балконе в таз воды налить.
День оказался действительно жарким. И после работы Надежда Петровна приняла душ, смыв усталость и пот. Вместо привычного чая, заварила компот из замороженных ягод. И только собиралась замешать творожную массу на запеканку, как в дверь позвонили.
- Здравствуй, Наденька, - за порогом стояла Софья Абрамовна. – Вот, должок принесла, - протянула чашку с сахаром.
Про сахар Надежда Петровна уже и забыла, оттого удивилась: долгов соседка никогда не отдавала. А вот сейчас, хоть убей, но сахар с рук Софьи Абрамовны брать не хотелось.
- Ну, что ты на пороге заснула? - прищурившись, улыбнулась соседка, а взгляд – лисий, недобрый, той улыбкой натянутой и не скрыть.
Пришлось Надежде Ивановне взять чашку с сахаром в руки, и едва от неожиданности не разжала пальцы: чашка-то тёплой оказалась.
- Заработалась, соседушка?
В голосе Софьи Абрамовны патока, аж тошно. И неожиданно загудело в ушах. Надежда Ивановна кивнула, намереваясь попрощаться и дверь поскорее закрыть. Не по себе от рыскающего взгляда Софьи Абрамовны, а та как нарочно переминается с ноги на ногу, точно хочет, но не решается ступить за порог.
- Жарко, - выдавила из себя Надежда Ивановна, чувствуя, как вдруг накатила слабость и бросило в пот.
- Да, жарко, соседушка, - подтвердила Софья Абрамовна и взглядом чёрных глаз своих сверлит и сверлит, как жжет.
И вот Надежда Ивановна видит, как соседка уже ногу заносит, чтобы порог переступить. Вдруг мяуканье слышит: так раньше жалобно мяукала её Рыжуха перед смертью. И сердце сжалось, взгляд удалось отвести в сторону и дверь захлопнуть, выдавливая из себя резкое, писклявое: «До свидания».
После Надежда Ивановна пила ягодный компот, а от озноба зуб на зуб не попадал, и слёзы помимо воли капали – кошку вспоминала. Пять лет Рыжуха у неё прожила – ласковая, мышей ловила в подвале, в квартиру добычу несла – показывала свою работу, а ночами Надежду Ивановну лечила, ложилась на больное место и с урчанием грела. Всё понимала кошка и всем хороша была, а как соседка, Софья Абрамовна, переселилась, чахнуть стала и издохла.
И действительно: нет во всём доме ни у кого кошек; собака, правда, в четвёртом подъезде имелась, да то комнатная, на улицу редко выходила, где всё скулила да к хозяйским ногам жалась.
Что толку подозревать соседку, когда вина не доказана? Оставалось уповать на волю Божью и Николая угодника, что всегда помогал Надежде Ивановне, когда молилась.
Поутру она святую воду пила, свечи церковные по вечерам зажигала – защищалась от нечистой силы. Да так, на всякий случай, булавку на одежду цепляла от сглаза, и вот ведь до сего дня всё помогало.…
На вечернюю улицу Надежда Ивановна вышла с двумя полными лейками, часов в восемь, когда похолодало. Старушек-сплетниц нет, и во дворе тихо, но от той тишины становилось не по себе. Не слышно ни шума машин, ни привычных звуков радио и телевизора из открытых окон.
Во время полива у Надежды Ивановны то и дело чесалось между лопаток, будто кто в спину посматривал. Нехорошо так посматривал.
Полив кусты роз да ландыши с бархатцами, она вздохнула, задрожав от накатившей слабости. Небо темнело на глазах, чёрные тучи стремительно плыли с запада. Пока ещё лёгкий, ветерок шевелил листву деревьев да нёс запах пыли. «Снова прогноз ошибочный в новостях выдали», - поёжилась Надежда Ивановна. Знать бы заранее, не выходила бы поливать. Ведь и так из-за жары, наверное, притомилась сегодня, как давненько не было. Только когда болела в прошлом году, зимой, да со слабостью боролась после болезни, совсем руки опускались, но справилась – с Божьей помощью и бодрым настроем.
Софья Абрамовна в одиночестве сидела на лавочке, со стороны, чёрная и крупная, что та ворона, нахохлившаяся на тротуарной плитке возле куста сирени. Только яркая шаль на широких плечах женщины выделялась при общей смуглости кожи и мрачности, словно веявшей от соседки на расстоянии.
И поздно увидела Надежда Ивановна ту соседку. Ноги-то сами понесли к подъезду, а Софья Абрамовна из самой темноты, как по волшебству, появилась. И поздно уже отступать, не спрячешься от глаз зорких, чёрных, всевидящих…
- Добрый вечер, Наденька, - вежливо и снисходительно поздоровалась Софья Абрамовна, точно ничего не случилось.
- Добрый, Софья Абрамовна, - нахмурилась Надежда Ивановна, с тоской поглядывая в освещённый светом зев подъезда. Совсем стемнело, и тёмные тучи заволокли небо.
- Что вы всё время убегаете от меня, - криво улыбнулась соседка. - А я вас уже заждалась, всё в гости пригласить хочу, чаем с мясным пирогом угостить в благодарность. Вам же развеяться надо, Наденька, всё работаете, как та пчёлка медоносная, золотая…
В ласковых словах чудилась Надежде Ивановне паточная вязкость, ядовитая и сернистая, удушающая.
- Некогда мне по гостям ходить, - честно сказала Надежда Ивановна. - Уж такой суетливой, деятельной уродилась. Извините, Софья Абрамовна, ни в коем разе обидеть вас не хотела, - добавила, разглядев, как от её слов позеленела соседка.
- Как знаете, как знаете, - точно каркнула Софья Абрамовна, и хрипло вслед поддакнула, взлетая от порыва ветра, ворона.
Надежда Ивановна поёжилась и, прибавив ходу, юркнула в спасительный подъезд. И чего соседке не сидится дома в такую ужасную погоду?.. Только зашла в квартиру, как ветер резко хлопнул балконной дверью. От испуга Надежда Ивановна пискнула, а затем, позакрывав все окна и завесив их шторами, включила свет, вымыла руки и занялась ужином.
На сытый желудок и страх, и мысли надуманные – всё куда-то исчезло. Надежда Ивановна, углубившись в небольшой роман Барбары Картленд, слушала, как грохочут по карнизу ливневые потоки дождя, да усмехалась про себя своим мыслям. Ну, чего ей бояться Софьи Абрамовны? Кабы та действительно зла желала, давно бы уже порчу навела, а не приглашала бы в гости да сахар, одолженный, не отдавала. Ну, жадная она, ну – завистливая, да и глаз тёмный, дурной, но кто же сейчас по земле ходит без греха?
Под всполохи молний, видимые даже сквозь тонкую ткань шторы, да под барабанную дробь дождя и зычного гневного рыка грома Надежда Ивановна неожиданно задремала. Проснулась от звонкого удара, как если бы на кухне вдруг тарелка упала. Сердце в груди сжалось. Ситцевый халат прилип к телу. Душно-то как в квартире и отчего-то темно. А ливень всё так же беспощадно гремел по карнизу потоком льющейся с низких небес воды.
Надежда Ивановна слегка запаниковала, растерявшись, что никак не может вспомнить, где это она оказалась. Но, выдохнув, до щелчка повертела замлевшей шеей, вспомнила и встала с кресла, потирая поясницу. Нащупала торшер и, пощёлкав выключателем, убедилась: либо лампочка перегорела, либо просто во всём доме, как не раз при грозе бывало, отключилось электричество. Принюхалась, так и не определив: чем это так попахивает в её квартире едким, протухшим, гнилым, как с болота?
В холодильнике, она знала, ничего скоропортящегося нет, даже остатки сала Надежда Ивановна вчера доела. Но именно на кухне запах усилился. Да ещё тапки нервно похрустывали по чему-то рассыпанному по полу. Порывшись в выдвижных ящиках, она свечей не обнаружила, а потом, сообразила заглянуть в спальню, схватила с прикроватного комода мобильник, благо вспомнила про функцию фонарика. Обрадовавшись собственной сообразительности, включила его и, вернувшись на кухню, замерла на пороге.
Тапки топтали сахар, тот, что Софья Абрамовна принесла, а в перевёрнутой чашке, задержавшейся на самом краешке стола, виднелось что-то коричневое. Размазанное по стенкам, как дерьмо, прости Господи.
Руки задрожали, Надежда Ивановна всхлипнула – ведь именно от чашки пахло болотной едкостью. Вдох, выдох – прислонилась к стене. В горле словно застрял ком, остро сжался мочевой пузырь.
С молитвой к Николаю угоднику она замела сахар и вместе с треклятой чашкой выбросила в мусорный пакет, оставив его за дверью квартиры. Затем выдохнула, заперев дверь на ключ и закрепив цепочку.
После пару раз вымыла руки обжигающе горячей водой с хозяйственным мылом. Гроза бушевала вовсю. Надежда Ивановна запалила свечу, обнаружив пропажу в банке под ванной. И успокоилась, только когда выпила остатки крещенской воды да перекрестившись. Разделась и легла в постель. Было так холодно, что зуб на зуб не попадал.
Проснулась от тяжести на груди и едкого болотного запаха. Хотела повернуться, но руки и ноги точно чужие: не подчинялись, неимоверно тяжёлые, а отёкшие пальцы стали негибкими и толстыми.
В спальне темно и тихо, только этот проклятый запах да тяжесть на груди, холодная, гадливая.
- Боже, помоги, - прошептала про себя Надежда Ивановна, разлипая губы. Язык во рту едва ворочался. От страха, от собственной беспомощности на глазах выступили слёзы.
- Святой Николай угодник, заступись, - прошептала - и чуток полегчало, смогла пошевелить пальцами. В ногах тоненькие и жаркие иголки закололи. И тут же ощутила, как с груди сместилась холодная тяжесть – прямо под горло. Шеи коснулось что-то влажное, слизкое.…
Наверное, Бог придал сил или то от страха, но Надежда Ивановна дёрнулась, кое-как повернулась набок. Со шлепком и глухим уханьем отлепилось слизкое от груди и плюхнулось на пол. Вместо крика изо рта женщины вырвался писк. Громко заверещав, с пола что-то подпрыгнуло, снова приземлившись на кровать. В этот момент Надежда Ивановна поняла, что если сейчас ничего не предпримет, то всё, пиши – пропало... Снова резко то ли заверещало, то ли сипло свистнуло – противно до омерзения. Всё тело снова стало цепенеть, точно свинцом наливаться, кровь леденела.
Пальцы коснулись ночной сорочки, расстегнули пуговки у горла и нащупали голую кожу, без привычного серебряного крестика. ААА! Божечки! Она ведь сама на ночь цепочку в стакан с солёной водой вместе со вставными челюстями положила, для отбеливания. Глупая старая курица, как же теперь крестик в темноте-то отыскать?
Хриплое посвистыванье совсем близко, шлепок – и прямо возле бедра теперь находилось что-то холодное. В панике Надежда Ивановна задёргалась изо всех сил, точно от наваждения запамятовав слова молитвы, и мысленно приговаривала: «Боже, Николай угодник, родимый, помогите, заступитесь за меня… Свят... Свят... Свят!..» Как же жаль, что иконка та единственная – на полке в зале, и свечи все церковные – там же. Непослушные пальцы вновь не желали сгибаться, чтобы перекреститься. Верещанье перешло в булькающий смех. От страха сердце Надежды Ивановны забилось как бешеное. Заболело в груди, потянуло, закололо, точно коснулись сердечка ледяные острые иголки. Дышать стало тяжело, и в пот бросило, а слабость всё сильнее наваливалась, как одеяло ватное, толстенное, всё сдавливая и сдавливая.
Но каким-то чудом рука подчинилась, и пальцы нащупали комод, затем стакан. И, вместо того чтобы подтянуть к себе и схватить стакан, дурные, непослушные пальцы скинули его на пол. Ах… Верещанье стихло. Надежда Ивановна нутром почуяла: сейчас «оно» прыгнет и приземлится точно на грудь – и всё. Намертво придавит, не отпустит.…
Напрягшись и заставив-таки себя взмолиться святым, она заёрзала и буквально в один момент сползла с кровати, грохнувшись на пол, прямиком в разлитую солёную воду. И легче стало на полу-то Надежде Ивановне, во сто крат легче. Тяжко вздохнула полной грудью, пальцы разом схватили и вставные челюсти, и серебряную цепочку. Заплакала беззвучно. Сжала в ладони крепко-накрепко цепочку. Как же яростно засвистело, заверещало на постели. Надежда Ивановна цепочку на шею надела и, кое-как встав на коленки, поползла из спальни прочь.
Свет не работал, сколько она ни щёлкала выключателем. Темно, хоть глаз выколи, а на ощупь в квартире то ли от паники, то ли от темноты Надежде Ивановне ну никак не удавалось сориентироваться. И запах болотный усиливался, а вот точно уверена, что окна в квартире закрыты, оттого леденящий ветерок, то и дело шевелящий волоски на затылке, тоже никак не объяснить. И что делать ей, растерянной и испуганной, Надежда Ивановна совершенно не знала. Кроме того, что нельзя ей в квартире оставаться с этим злобно верещащим существом, желающим одного – извести её.
Боженька, Николай угодник, заступник, дайте сил... С каждым преодолённым (именно преодолённым!) ползком вперёд по квартире слабость грозила придавить к полу. Надежда Ивановна вся вспотела, мучалась отдышкой, то и дело ударяясь локтями об стены, шкаф и двери, ощущая, как путаются в голове мысли. Но до двери прихожей, как ни кряхтела, не удавалось доползти. Морок с бесом на пару, не иначе, запутал.
И вот, стиснув волю в кулак, направив всю свою злость и ярость против телесной слабости, она оказалась на кухне. Липкие от пота пальцы заскользили по шкафчикам, у раковины, упёрлись, потянули, открывая дверцы. Наконец, пошарив изнутри, Надежда Ивановна обнаружила упаковку спичек и только чиркнула спичкой…
Верещанье. Близко. Руки затряслись вместе со светом задрожавшего огонька. Надежда Ивановна разглядела в коридоре, напротив порога, контуры огромной жабы. Она была серая, бугристая, размером с годовалую кошку, вся лоснящаяся, а в вытаращенных чёрных глазах проглядывала ехидная насмешка. Снова пронзительное верещанье. И Надежда Ивановна точно опомнилась от наваждения. Боже... Взгляд заметался по кухне. Остановился на тяжёлой сковородке, но защемившее сердце подсказало: сил не хватит нанести удар.
Жаба прыгнула через порог. Надежда Ивановна в паническом страхе схватила в руки первое, что подвернулось. По ощущениям – в пальцах сухой мелок от тараканов. Едва не выбросила, но вдруг озарило воспоминание! То ли прочитала, то ли услышала: круг из мела защищает от колдовской силы!
С молитвой на устах женщина дрожащими руками начала чертить круг вокруг себя и от страха закрыла глаза, когда жаба снова прыгнула - и неожиданно с недовольным писком плюхнулась на пол, словно во что-то ударившись. Сердце в груди Надежды Ивановны пропустило удар.
Жаба же, прыгая снова и снова, натыкалась на невидимую стену и верещала всё яростнее. Надежда Ивановна нашла в себе силы подняться и вдруг рассмеялась: страх совсем ушёл. Появилась странная уверенность, что теперь всё будет хорошо.
Жаба отступила, сверля Надежду Ивановну чёрными глазами.
Резко хлопнуло, открывшись, окно. Ветер ворвался с потоком дождя, залив подоконник и отбросив в сторону горшки с фиалками. Земля рассыпалась, и горшок проехался, точно нарочно прямо по меловой линии. Жаба торжествующе свистнула, готовясь к прыжку. От очередной волны слабости едва не подкосились колени. Надежда Ивановна стиснула зубы, слегка покачнувшись, но устояла. Вздохнув, положилась на бога, решила, что ни за что не сдастся. От сильной боли в сердце на глазах выступили слёзы.
Взвыл ледяной ветер, наполняя кухню запахами болотной гнили. Дождь унялся, за окном слегка посветлело. Из последних сил Надежда Ивановна резво покинула круг и, разглядев стоящую подле раковины швабру, схватила её. Развернувшись, она крепко ударила прыгнувшую в ослабевший круг жабу. Как же та заверещала, ужом закружилась по кухне! Но Надежда Ивановна не отступала, толкала жабу шваброй, била по пухлым бокам, пусть и голова кружилась, пусть и руки дрожали, а сердце будто бы стягивали железные обручи.
Удар, ещё один. Вот ей удалось вытеснить жабу из кухни. Все мысли Надежды Ивановны свелись к яростному, словно нашёптанному знанию: она должна любым путём самолично изгнать жабу за порог квартиры и только так спасётся…
Жаба верещала, с каждым ударом швабры ревела всё пронзительнее, всё меньше уворачивалась, всё старалась забиться в какую-нибудь щель, хоть под комод, но от Надежды Ивановны, коль она решилась, не уйдёшь.
Замигала, взорвавшись, лампа; рухнуло в прихожей зеркало. Ветер носился по квартире, точно ураган, распахивая дверцы мебели и выворачивая содержимое шкафов наизнанку, так что по всей комнате металась одежда, сорванная с места.
Хоть сердце щемило всё сильнее, хоть Надежда Ивановна задыхалась, и зрение затуманивали чёрные мушки, она стискивала зубы, не уступала, только просила Божьей помощи в борьбе с супостатом.
А за окном прояснилось, тучи развеялись. Назревал рассвет. Всё утихло. Тяжело дышавшая, обессиленная жаба замерла на коврике у порога. Оставалось только открыть дверь и избавиться от твари.
Перекрестившись, обливающаяся потом Надежда Ивановна придушила жабу шваброй, прижав её к ковру, затем открыла двери и, выдохнув, вытолкнула тварь из квартиры. Жаба слабо заверещала, задымившись, скакнула в тень, прочь от солнечного света, разливающегося тёплым золотом по лестничной площадке.
- Благодарю тебя, Господи, - прошептала Надежда Ивановна одними губами и закрыла за собой дверь. Сердце сдавило невыносимо. Она глубоко вздохнула. Силы враз оставили её, и разве что чудом удалось добраться до холодильника и принять лекарства. Надежда Ивановна сжала в руках крестик и, уповая на Бога, заснула в изнеможении прямо на полу.
… Надежду Ивановну разбудили звуки сирены, шум и голоса в подъезде, топот ног.
В теле оставалась лёгкая слабость, хотелось пить, но чудо - сердце отпустило. Она плохо помнила, что произошло - и почему лежит на полу, у холодильника.
Выпила воды, почувствовав неимоверное облегчение. Вышла на балкон. Ветер опрокинул таз и смыл голубиный помёт с перил.
Во дворе широкоплечие санитары погружали кого-то в носилках в машину скорой помощи. Возле подъезда толпились кумушки-старушки и остальные соседи.
Так что же случилось?
Машина уехала. Все поспешили разойтись, кроме старушек, усевшихся на лавочке, чтобы как всегда поболтать. Всё же любопытство победило, и Надежда Ивановна вышла во двор. Поздоровалась с соседками. Солнце клонилось к закату, и свежий ветерок с запахом цветов освежал лицо.
- А нашу Софью Абрамовну на скорой увезли, удар хватил! Говорят, парализовало полностью. Упала, всё тело в синяках, - заохала старушка в платке в горошек – Маруся.
Другая, Лариска, круглолицая, с ниточкой подведённых чёрных бровей и не по возрасту яркой помадой на тонких губах, сморщилась, словно лимон распробовала, и сказала:
- Молчи, Маруська. Воздалось ведьме по чёрным делам, точно тебе говорю.
Надежда Ивановна вздрогнула, вдруг всё ясно вспомнив. Перекрестилась, мысленно благодаря святые силы за спасение, на лавочку села и тихо сказала:
- А я вот кошку решила завести…
- Оно и правильно, Надя, кошечка порядок с мышами в подвале наведёт да жизнь нашу общую, старушечью скрасит, - поддакнули, переглянувшись, соседки.
Надежда Ивановна улыбнулась, абсолютно уверенная, что теперь всё точно будет хорошо.
- Чего так долго! - крикнула Дина.
Она стояла в тулупе и валенках (ночами в лаптях было холодно, и даже бахилы не помогали). Длинная юбка скрывала ноги, шерстяная кофта проглядывала, вылезая у горла - там, где у тулупа не хватало пуговицы, а в темноте и вовсе казалась чёрной.
Дина повозилась, склонившись, и наконец-то зажгла керосинку. Лампа разгорелась, и мы направились по знакомому маршруту, к дому Иосифа.
Ночь была холодной, а звёзды - редкие гости: тёмные тучи укрывали их время от времени. Воздух холодил лицо, белым паром выходил изо рта, пока мы шушукались, шепчась всю дорогу, боясь, оглядываясь по сторонам, с натянутыми до предела нервами. Дом Иосифа находился в пятнадцати минутах от моего.
Приблизившись к его дому, мы поняли: что-то неладно. Овчарки, по кличке Полкаша, постоянно дежурившей возле дома, не было. Цепь возле будки висела оборванной. Ставни на широких окнах были раскрыты, а парадная дверь у крыльца скрипела, так как была не заперта.
- Беда, - просто сказала Дина, посмотрев на меня. Я кивнул, но, поняв, что она не видит, спросил:
- Зайдём?
В доме все спали как убитые. Натопленная с вечера печь давно остыла, и было холодно. Сквозняк гулял по дому, пробираясь через раскрытые окна и щель незакрытой двери. Бабка, в белой, длинной сорочке и чепце, закрывающем лоб, спала на полу и храпела, хоть из пушек пали - не разбудишь, а отец Иосифа, худой высокий мужчина, лежал на высокой кровати, стоящей напротив печного щита: раскрытый, в одних кальсонах, одеяло на пол съехало, а простыня, примятая, сбилась, складками уходя ему под живот, словно он ворочался, пока не заснул.
Они спали крепко, не слыша наших шагов и разговора, не ощущая холода раскрытого настежь окна.
- Ой, морок, Микко. Морок их сковал. Страшно-то как. - Дина поёжилась и спросила: - Что делать-то будем?
Я не знал, что сказать, просто спросил:
- Ты всё принесла?
- Ага, - кивнула она, снова сосредоточившись. Отличница Динка, собравшись, прекрасно соображала. - Мы в рощу пойдём?
- А то, - бодро произнёс я. - Ты ж сама надумала. Раз все, что ты мне рассказывала, правда, то тогда Иосифа спасать надо.
- Эх, ты, шутник, сомневался? А я же говорила тебе.
- Говорила. Давай лучше ещё одну керосинку у них поищем. До лесу долго идти. Заплутаем ещё в темноте.
Она пошла на кухню искать керосинку, а я стоял в коридоре, возле двери. Тени гуляли по комнате, превращаясь в фигуры. Смотрел на чистый деревянный пол, пока шторы и занавески то взмывали в воздух, то замирали, еле двигаясь; пока с ними, озорничая, играл ветер. Мне было жутко, и, несмотря на две тёплые кофты и фуфайку, холодно. И сердце билось так часто, что пульс колотился в горле. И всё же страх и азарт приключения жили во мне, двигая горячую молодую кровь по жилам.
Дина принесла бутыль с керосином, маленькую - всего на пол-литра.
Мы вышли за дверь и, не сговариваясь, взялись за руки и побежали, благо дорога шла напрямик, через широкое, длинное поле, кажущееся бесконечным в эту холодную, тёмную ночь. Пробирались сквозь бурелом: с кочками, сорной пожухлой травой и репейником, высоким, разросшимся, устремлённым к небу.
Бежали, жадно хватая воздух, тяжело дыша, пока не выскочили к остановке и к лесу.
Поднялся ветер, из-за которого в лёгких огнём горело. Скоро Динка заныла, что идти больше не может, а я продолжал её тащить за руку, уговаривая потерпеть чуток - полегчает. И бодрил её и самого себя одновременно. Мол, что мы справимся и что она смелая. Говорил много того, что в обычной жизни сказал едва ли. Моя речь вдохновляла её, вскоре она бежала уверенно и не тряслась от страха, как поначалу.
Остановка, а за ней лес. Тёмный, наполненный шёпотом сухих листьев, скрипом еловых ветвей и тенями. Жутко было продираться через него, жутко до усрачки. Корни деревьев цеплялись за ноги, кусты орешника, будто раздавая злые пощёчины, хлестали по лицу. Листья берёз и дубов, мокрые от дождей, на земле начинали загнивать и скользили, не давая опоры уставшим ногам.
Я бежал, и мои колени дрожали. Свет керосиновой лампы служил нашим единственным ориентиром в тёмном безмолвном лесе, а горячая ладошка Дины в моей руке отрезвляла, давала уверенность, что всё взаправду, прогоняла дикие мысли, что всё нереально, всё сон.
Обогнув кладбище, забор которого во многих местах покосился, а на крестах сидели чёрные вороны, мы побежали дальше, углубляясь в самую глухую чащу, - тропой, укрытой листьями и ведущей к плавучему островку посреди воды.
Старики говорили, что плавучий остров населяют призраки. Призраки, которые пробираются в голову и шепчут голосом сладким и паточным, убеждают, приказывая, заставляя бросать всё и уходить в лес.
По россказням, на островке таились те, кто не мог уйти насовсем, застряв между мирами. Это место будто притягивало заблудшие, убитые горем души.
А Дина сказала мне совсем другое, ещё более жуткое. Мол, остров населяют души людей, забранные шептунами, - теми, кого вызвала ведьма извне.
Первая версия казалась мне более обнадёживающей. Вторая версия, если предположить, что всё так и есть, на самом деле не оставляла ни единого шанса на спасение.
Но я решился, взял волю в кулак, заставив сомнения исчезнуть, и продолжал бежать, подталкивая и Дину вперёд.
Керосинка догорала. Языки пламени лизали остатки янтарной жидкости. Требовалось заполнить лампу, и мы остановились.
Было на удивление тихо, словно готовилось появиться нечто. Ветер напрочь отсутствовал. Иллюзия нереальности вернулась. Мы молчали, только крепче сжимали наши ладони. Не сговаривались – чувствовали: за нами наблюдают.
Это такое чувство, словно кожей ощущаешь давление взгляда, обволакивающего со всех сторон; взгляда, давящего злобой. Стало так страшно, что я стиснул зубы.
Лёгкий порыв воздуха донёс до меня зловоние: озеро зарастало ряской, и газы, образованные под торфяником, всплывали, резко булькая.
Дина обернулась, я вместе с ней. Шорох ветвей - словно птица, пролетая, крылом задела. Дальше – озеро. Оставалось сделать два шага - и мост: простое широкое бревно, перекинутое между оврагами.
- Ты готов? - с вызовом спросила девочка, но я почувствовал: так Динка себя подбадривала.
Высохшее, полусгнившее березовое бревно служило мостом. Опоры не было Мы кое-как, медленно, цепляясь руками и ногами, ползком перебрались на остров и очутились по самые уши в листьях.
На островке росли одни осины, словно специально посаженные. А возле кромки воды усохшие, словно древние стражи, стояли дубы, обожженные частыми грозами, но даже мертвыми не падающие.
Тонкие корявые стволы осин окружали поляну. И везде листья: чёрные в темноте и коричневые в отблесках янтарного пламени.
Мы остановились, не зная, куда идти, когда я ЭТО почувствовал. Холод прокрался сквозь одежду, добрался до сердца, кольнув и заставив поёжиться.
Здесь было ещё холодней, чем в лесу.
А потом услышал. Кто-то шепчет, и не один - быстро-быстро, бессвязно, захлёбываясь этим странным, жутким шёпотом.
Мы сами зашушукались, словно боялись быть пойманными с поличным. А может, чувствовали, что громкий звук привлечёт внимание. Затем медленно обходили поляну по кругу - как вдруг я обо что-то споткнулся. Я закричал, падая на землю. Дина взвизгнула. Мгновение тишины, потом сова заухала, будто издеваясь над нами. И снова зашептались вокруг - быстро и лихорадочно, шелестом трав ли, шуршанием ли сухого листа под ногой.
Я споткнулся о тело. Белое, худое, без одежды. Иосиф. Узнали сразу.
Минуту я колебался. Дина опередила меня, подойдя к нему потрогать кожу.
- Он холодный, - сказал она.
У меня пропал дар речи, а в уши снова толкнулся торопливый шёпот, вслушаться в который и понять я не умел.
- Что ты стоишь, помоги! - резко шепнула девочка, глянув так, что мое оцепенение рассеялось.
- Что делать? - спросил, выходя из ступора и стараясь не слушать шорохи вокруг, которые приближались с каждым мгновением.
- Помоги: доставай рушник, укутывай. Время ещё есть. Она ещё не успела...
«Успела что?» - хотел переспросить я и вздрогнул, когда - показалось - зашептали совсем рядом, в траве под осиной. Порыв ветра разогнал тучи. Полная луна купалась в зловещем беззвёздном небе. И я смог разглядеть, что под осиной - никого. Но шёпот...
- Ты чего? - спросила Дина, сама доставая рушник и набрасывая Иосифу на голову.
Я застыл столбом, не в силах обернуться. То, что я увидел, многие годы спустя не давало мне спокойно заснуть, являясь в кошмарах.
От воды шёл пар, белый, молочный. Он клубился, извиваясь змеями. Я стоял и смотрел, как нечто ползёт под ним. Нечто огромное.
Стон привёл меня в сознание. Признаю: ещё бы чуть-чуть - и я бы описался. И не надо смеяться, посмотрел бы я на вас, очутись бы вы на моём месте.
Стонал Иосиф. Он открыл глаза и хрипел, спрашивая:
- Что происходит? Микко, ты здесь. Что я тут делаю?
Мой друг стал подниматься. Листья, скрипя, шуршали под его ногами, заглушая зловещие шепотки вокруг. Дина расстегнула свою фуфайку, сбросила, а потом сняла длинную кофту, накидывая ему на плечи.
- Бежим! - крикнул я, увидев приближение двухметровой корявой тени. У этой тени было женское лицо; волосы извивались корявыми прутьями, но самыми страшными казались её глаза - лишённые зрачков, напоминающие дупла, в которые клубилась размытая, теряющая очертания синеватая тьма с красноватыми искорками, то мелькающими, то исчезающими, появляясь по кругу, словно кольцо. Тень плыла в молочном тумане бесшумно, но шепотки зачастили, зашуршали, точно радуясь её приходу!..
Хотелось кричать. Нечто всё приближалось. Шёпот становился всё пронзительней и насмешливей... Дина схватилась за голову.
- Больно, - шепнула она. - Сопротивляйся. Не верь её словам.
Внезапно резкая боль взорвалась в голове фейерверком. Виски горели огнем. Шёпот липкой паутиной коснулся сознания, словно осьминог пробирался мне в голову, пачкая, щупая, разглядывая мои воспоминания.
- Интересно, - сказал в моей голове чуждый, холодный голос.
Я чувствовал, что теряю себя.
- Держись, - явно преодолевая боль, сказала Дина.
Я поднял глаза, рассматривая её в колеблющемся пламени.
Она взяла меня за руку. Её глаза блестели. Я увидел в ней силу, древнюю, несокрушимую.
- Не бойся, доверься мне, - прошептала она, и я вдруг понял, что не с Диной я разговариваю: перед глазами промелькнул образ её бабушки, с седой косой, с приятным морщинистым лицом и самыми добрыми на свете глазами.
Дина, распахнув кофту, достала крестик. Молитву читать собралась или так, для уверенности?
Туман обступил нас со всех сторон, скрыв деревья и траву. Как обступили и шелестящие, кровожадно хихикающие шепотки.
- Не отпущу, - резко произнёс женский, смутно знакомый голос.
Я узнал его, Иосиф - тоже. Он вздрогнул и прошептал:
- Мамочка!
- Да, сынок, Иди ко мне, я вернулась. Пришла за тобой. Иди же. Теперь мы будем с тобой всегда, мой маленький медвежонок.
- Нет, - сказала Дина, которой руководила бабушка. - Ты его не получишь.
- Он мой! - завыл ветер, наполненный шелестом странных голосов. - Он мой по праву.
- Не твой, - возразила девочка голосом своей бабушки и улыбнулась.
Опять на её лице проступили черты старушки.
- Преданность, бесстрашие победило тебя, ведьма. Ты знаешь правила: кто не побоится прийти за призванным и тот, у кого сердце не дрогнет, получает жертву злых чар обратно.
- Ха-ха. К чёрту правила! Никто ничего не узнает!
Ветром донесло ледяной голос и режущий нервы оглушительный шёпот. Запах сырой болотной воды залепил ноздри. Живот скрутило тугим узлом, и вся моя скромная недавняя трапеза приблизилась к горлу. Я сглотнул, слюна отдавала горечью.
- Я забираю его! - крикнула Динка. Бесстрашная и воинственная. - Мы уходим. Отпусти нас по-хорошему!
- Попробуй! - завыл ветер. Луна скрылась за тучами. И мы остались одни.
Туман подступил к горлу. Мне казалось, что я тону, погружаюсь в сырую зловонную бездну. Наверное, я отключился, но голос Дины, прорезавший шепчущий туман, привёл меня в сознания, став маяком.
- Микко, ты сильный, веди его к свету.
И мы пошли, не чувствуя земли, шли, словно плыли на свечение. И вдруг вынырнули в просвет, жадно дыша, будто бы задыхаясь. Сердце стучало. Пот стекал по лицу холодными каплями... Мы с Иосифом переглянулись.
Стояли мы возле Дины, на обрыве, где корни осин переплелись с трухлявыми, полусгнившими дубовыми. Высокие деревья, почерневшие у корней, серой корой сужались к макушке. Всегда без листьев. Мертвые, ждущие. Шепчущие призывно и жадно.
- Идите смело, мальчики. Держитесь за руки, - напутствовала нас Дина голосом своей бабули. - И пусть ваши сердца не дрогнут. Помните об этом.
- А ты? - спросили мы одновременно.
- Я задержу её.
- Мы тебя не бросим.
- Уведи его, а я справлюсь,- обратилась ко мне. - Третьи петухи пропоют, и всё будет кончено. Иди же! - крикнула. - Ждать недолго.
У неё был такой взгляд, мы не осмелились спорить.
Перейдя по бревну назад - будто подталкиваемые возмущёнными шепотками, стараясь не глядеть себе под ноги, я обернулся на слабый крик. Увиденное яркой картиной застыло в моей памяти. Мёртвые деревья обступили Динку со всех сторон. Они вцеплялись в неё корнями, окутывая её, постепенно приближаясь. Они нависали над нею, сдавливали её, скрывая за собой. Маленькая фигурка боролась, крича, и видно было, как ей тяжело.
Иосиф упал на землю, его трясло. Руки наши были крепко сжаты, и он невольно потянул меня за собой. Я отвлекся, поднимая его и впервые радуясь, что он такой тощий.
Оглянувшись с поляны, я увидел: Дина уже шла по бревну к нам.
Корни расцепились, вода бурлила в озере. Ночь огласилась пронзительным карканьем. Небо потемнело. Тьма стала кромешной. Стаи чёрных, как лепестки сажи. ворон слетались к острову со всех сторон.
Я подошёл к бревну, протягивая Дине руку, видя, как она обессилела. Ей оставалось преодолеть всего ничего.
Внезапно бревно покачнулось! Я успел схватить девочку за ладонь. Наши пальцы переплелись. И тут из воды выстрелом, поднимая холодные брызги, взметнулась ветка. Гибкий прутик обхватил Дину за пояс, хотя я продолжал тянуть. Из воды показалась голова, а потом выплыла вся фигура. Мне бы стало смешно, если бы не было так жутко.
Библиотекарша напоминала призрачную деву вод, о которой я читал в сказках. Обнажённая, с блестящей кожей, с зелёным венком, будто короной украшающим голову, и с тонкими, гибкими прутиками, скрывающими грудь.
Вспоминая тот день, я признаю: да, она была красива жуткой, нечеловеческой красотой, и я, только повзрослев, понял, что в ней находили мужчины. Соблазнительная, гибкая хищница. Ведьма, служащая силам зла.
Мы ещё не победили - она пришла за нами! - понял я тогда.
Я тянул Дину за руку, но её мокрая ладонь выскальзывала.
- Отпусти её, брось! - слышал я в дикой какофонии всех звуков, смешавшихся в один громогласный рёв.
- Нет, не отпущу, - шептал в ответ. - Я спасу её!
Смех резал сердце моё, точно стекло, в виски впились холодные гвозди.
- Отпустишь. Ты, Микко, ещё маленький. Ты слаб. Тебе не справиться.
Я падал на землю, и рука Дины выскальзывала. «Всё, проиграли! Всё, конец, не могу больше!» - кричало внутри меня. И нет никого рядом, кто бы перетянул чашу весов.
Пауза. Тишина. Секунда. Пар вырвался изо рта, застыв на мгновение в холодном воздухе. Время застыло, и вдруг Иосиф каким-то чудом оказался у бревна, сдёрнул с головы освящённый церковный рушник, дающий ему защиту.
Никто не ожидал того, что сделает слабый, замерзавший в лесу Иосиф! А он только что просто стоял - и вот те на: швырнул рушник, накидывая его ведьме на голову!
Я только успел заметить её удивлённый взгляд. А затем её глаза увеличились раза в два, напоминая рыбьи. Волосы лжебиблиотекарши заклубились, вспыхивая белым пламенем, разгораясь всё ярче, пока не зашипели, взметнувшись искрами, словно бенгальские огни-фейерверки, чёрной сажей опадая в воду.
Ведьма завыла и со всплеском упала в озеро!
Я перетащил Дину к нам. За озеро, за спасительную черту. Девочка помолчала, а потом просто выдохнула:
- Слышишь: петухи пропели?
Мы бежали домой, словно за нами гнались черти, и смех ведьмы звенел в моих ушах, а может, это был ветер. Не знаю, как добрались. Не знаю, что случилось с ведьмой.
- Итак, всё закончилось, да, деда? - спросил Александр. Его лицо побледнело. Он и Дима выглядели ошеломлёнными.
- Почти, - ответил Микко. Он тоже зевнул, закрывая рот ладошкой. - Пара слов - и конец истории. Тогда мы спаслись, победив её. А Милена Станиславовна просто исчезла. Словно и не работала в деревне долгих пятнадцать лет, а может, намного больше. Никто не знал, куда она пропала и что с ней произошло. Слухи ходили разные. Думали, что её забрал с собой один богатей из Москвы и что она вышла замуж. А может, она стала актрисой и сейчас выступает в театре.
Но мы знали. Мы с Диной знали страшную правду, хотя Иосиф практически ничего не помнил.
После всего пережитого Дина и я стали друзьями не разлей вода, и можно даже сказать, что я испытывал к ней нежные чувства. Хотя такие девчонки, как она, мне никогда не нравились.
- А почему? - спросил Дима.
Микко посмотрел на него, затем на Александра.
Наступила тишина.
Дедушка устал. Он говорил где-то час, и в его горле пересохло. Микко допил давно остывший кофе одним большим, последним глотком. Прокашлялся и продолжил. Кресло под этим мужчиной-горой протестующе скрипнуло, когда он дотянулся до земли поставить чашку.
- Потому, что она такая же несносная, как и ваша бабуля.
Братья переглянулись, взявшись за руки, без слов понимая друг друга.
Микко продолжил:
- А через год мы уехали. Мне было почти двенадцать. Поэтому я так и не знаю, чем всё по-настоящему закончилось. Возможно, ведьма ещё жива и тогда...
- Дед, ты гонишь, - сказали мальчишки.
- А вот и нет. Я правду говорю. - Микко улыбнулся.
- Всё, пошли спать, - сказал Микко. - Бабушка заждалась уже, да и время позднее.
Дед посмотрел на часы - было без пяти двенадцать.
Когда мальчики заснули, уложенные и заботливо укутанные пуховым одеялом, Микко сказал свое жене, сидевшей на диване:
- Я надеюсь, они усвоили урок, что не всё в этом мире так просто, как кажется на первый взгляд. Есть страшные тайны, которые лучше не разгадывать, а есть настоящие чудеса, которые заставляют задуматься, давая надежду, что, несмотря ни на что, добро победит и жизнь наладится.
- Я тоже надеюсь, милый, - сказала жена, беря его за руку, - что твои рассказы не станут для них просто историями. Ты только будь терпелив, не требуй от них слишком многого. Они ведь ещё маленькие мальчики. Со временем они всё поймут. Я знаю.
Трещит, мигая сотнями искр-светляков, большой костер, разожжённый на заднем дворе. Яркое зарево оранжевым багрянцем освещает всё вокруг. Дом окружён маленьким редким деревянным забором и высоким сосновым лесом, защищающим от пронизывающего ветра, зимой налетающего с моря. Сейчас в вечернем майском воздухе сильно пахнет сосновой смолой и ароматом печеной картошки, спрятанной в углях.
Микко, старый финн, сидит, тихо покачиваясь в вынесенном из дома плетеном кресле-качалке. Он осторожно тычет кочергой в костёр, вороша угли, поднимая золотистые искры. Он задумчив. Хмурый лоб избороздили полоски морщин. Отблески пламени золотят его смуглое, квадратное лицо, рисуя на нём узоры.
- Деда, а деда, расскажи сказку. Ну, расскажи, пожалуйста, - громко сказали мальчики, внуки, незаметно подкравшись к нему со спины.
Старый финн вздрогнул, затем повернулся, пытаясь схватить шалопаев.
- Ну, сейчас я вам задам, негодники. Я же говорил вам не беспокоить меня!
Он поднялся, глядя на внуков, которые уже уселись на бревно напротив.
- Ну пожалуйста! - заныли они.
Микко снова сел в кресло-качалку. Он внимательно и серьёзно посмотрел в глаза внуков.
- Хорошо, но это в последний раз. Пусть вам мама сказки рассказывает. Она же писательница, как-никак.
- Ну, деда, мамины книжки - полный отстой. А ты так рассказываешь! - Светловолосый мальчик, задумался, словно вспоминая, а затем восторженно продолжил: - Дед, сказать по правде, когда ты говоришь, мы с братом будто бы переживаем всё вместе с тобой. Правда, Димон?
- Ага, - кивнул младший брат.
- Ладно, уговорили. Умеете задобрить старика.
Еловое полено треснуло. В воздухе запахло горящей смолой.
Мальчики замолчали, затаив дыхание, а Микко вдохнул пропитанный еловым духом воздух и начал рассказ.
- Расскажу я вам сказку. Второй раз повторять не буду, так что слушайте внимательно, - предупредил он. - Мне стукнуло одиннадцать, а может, чуть больше годков, когда родители временно переехали в Россию. В маленькую деревеньку, в ста километрах от Смоленска.
Так мы оказались в Богом забытой глуши, где нас ожидала маленькая избушка и место лесника для отца.
С работой отцу в то тяжёлое время помогла ваша прабабка Янина, живущая в деревне Столбцы.
Так вот, приехав туда, я понял одно: нам здесь не рады. Я не знал русского языка, лишь отдельные фразы, да и те с трудом мог понять.
- Ваша прабабка, - обратился он к внукам, хотя те и так всё знали, - была наполовину немка. Ей тоже в своё время пришлось нелегко: после войны она осталась в России, так как была военнопленной. Она-то и помогла мне выучить русский, а немецкий стал моим вторым языком, - с гордостью вспоминая, рассказывал Микко.
Сделав паузу, дед закряхтел, качаясь в кресле, посмотрел на огонь, беспощадно высвечивающий его глубокие, словно борозды, морщинки на волевом худощавом лице. Затем слегка наклонился, шаря кочергой в костре, ворочая догорающие еловые поленья. В воздух взметнулся столб искр.
- Что дальше, деда? - спросил Александр. Неспешная, плавная речь Микко навевала на него сон.
- Не мешай рассказывать, - толкнул его в бок Дима.
Александр надулся и замолчал, отодвигаясь подальше от брата.
Микко посмотрел на внуков и улыбнулся, вспоминая свои молодые годы.
Рассказывать занятные истории у костра - своеобразная семейная традиция, а Микко рассказывать умел. Голос хорошо поставлен. И говорил Микко, увлекая собеседника, заставляя его погружаться в свой мир. Вынуждая поверить безоговорочно, что всё рассказанное - чистая правда. Просто поверить на слово.
Месяц показался на небе, ветер подул, отгоняя серые облака в сторону, открывая майские звёзды. В доме, во всех комнатах, горел свет. Внутри, за большими окнами, было тепло и уютно. Но уходить мальчикам не хотелось. Слегка ёжась от холода, застегнув свои ветровки, они продолжали слушать рассказ.
- В школе, в которую пришлось мне ходить, был всего один кабинет. Самые младшие дети, лет шести и восьми, учились вместе с юнцами лет тринадцати. Маленькое серое помещение еле вмещало всех учащихся. Узкие окна впускали мало света. Теневая сторона, сырость, да и пола не было. Вместо него - чёрная земля, натоптанная. Школа находилась возле заброшенного конезавода, окружённая густым лесом, напротив остановки и одноэтажного магазина «Сельпо», с решётками на окнах.
Классы обучали две учительницы, а сам директор, Дмитрий Петрович, вёл русский язык. Важный, солидный мужчина за сорок, у которого плешь на затылке напоминала пятно, а квадратное лицо не знало улыбки. Он был злющий-презлющий. А в пыльной маленькой библиотеке перебирала стопки книг в потёртых обложках словно бы вышедшая из одной из них настоящая королева волшебной страны, по какой-то причине потерявшая своё королевство.
Библиотекарь, молодая женщина, была очень красивая и стройная, с длинными густыми волосами, заплетенными в косу, изящно уложенную короной на голове. Внимание всех привлекали высокий лоб, белая, как молоко, кожа и чёрные глаза, пронзительные, будто у хищной птицы.
Её взгляд мне не нравился, но общее впечатление не портил. Я был заинтригован: такая красавица!
Никто не знал, сколько ей лет и почему она работает в этом захолустье.
Но симпатию она внушала всем.
Её нежный голосок напоминал колокольчик, тонкий и очень приятный. Только её взгляд, задумчивый и какой-то странный, слишком пристальный, порой неприятно холодил кожу. Иногда она вглядывалась в лица детей, словно что-то выискивая. Но что?
Первая четверть подходила к концу. Осень не спешила сдавать позиции. Листья ещё не осыпались и устилали дорожки золотистым ковром, а солнце всё ещё согревало наши детские лица, когда мы зевали на уроках при взгляде в окно.
Часто вечерами я ходил к одинокому мальчику. Иосиф - так звали его. Тощий, нескладный, сутулый застенчивый мальчик напоминал бездомную собачонку. Он никому не нравился, все обходили его стороной, потому что его семья была одной из богатых.
У них всегда хватало в доме еды.
А я тоже сначала дразнил его, потому что он никогда не умел давать сдачи.
Сам не знаю, почему подружился с ним. Возможно, потому, что с другими детьми общаться было ещё сложней. Все в классе на пару лет меня старше, а этот, невзрачный и хилый, был мой ровесник. А может быть, просто потому, что однажды он меня угостил картофельными пирожками, испечёнными его «буббе», то есть бабушкой - толстой, некрасивой женщиной, которая слишком сильно любила его, единственного внука - сына своей болезненной дочери.
От школы через лес - минут сорок ходьбы, да и то быстрым шагом, минуя парк и кладбище возле лесной реки. Ветер там то замирал, то продувал насквозь, и говорили, что странные голоса шепчут там вечерней порой. А может, людям это только чудилось?
Места, по слухам, здесь были гиблыми.
В тот памятный солнечный день мы дружно сдавали книги. В подвале было пыльно, и паутина висела под подоконником. Милена, библиотекарь, всем улыбалась и была очень довольна, словно знала что-то, чего не знали мы. А Иосифа не было. Я только позже узнал, что его мать заболела. И, когда он пришёл после недельных каникул, я понял: дела совсем плохи. Иосиф был бледный. Его рубашка, всегда тщательно накрахмаленная, выглядела примятой, словно он в ней и спал, волосы спутаны, немытые. Под глазами появились чёрные круги, и, кажется, он похудел. Стал таким тонким, что в серый дождливый день напоминал привидение.
- Моя мать, - прошептал он тогда, - умирает, - и заплакал.
Такие грустные у него были глаза, что у меня сердце сдавило железным обручем. Я обнял его, не зная, чем ещё помочь, и всё шептал:
- Не плачь, не плачь.
Неделю спустя его мать умерла. Высокой температуры не выдержало слабое сердце. Тогда я почему-то подумал, что Иосиф слишком слабый, чтобы выдержать такой удар. Он оказался сильнее, чем меня удивил, но стал совсем нелюдимым, закрылся, возведя между собой и миром высокую, молчаливую стену.
Книги стали ему утешением.
Я пытался, поговорить с ним, но он тихо качал головой. Учителя практически не обращали на его причуды внимания, так как он исправно учился, только его частые блуждания по лесу казались всем странными.
За пару дней до конца октября к моей парте впервые подошла Дина Мартынова, девочка лет восьми. С русыми косами, плотная, румяная, она напоминала матрёшку. Вот она-то и предупредила меня, обронив пару слов как бы случайно:
- А Иосифа шептуны заберут. Не пускай его в лес тридцать первого. Сможешь?
Мне показалось, она сказала это издеваясь.
И я сказал ей, чтобы замолчала. В бабушкины сказки я не верил.
Она слегка улыбнулась и вернулась в девчачью компанию, а я никак не мог забыть её улыбки. Грусть и разочарование читались в глазах Дины, и я понял: она не шутила.
Двадцать девятого октября я сам подошёл к ней на маленькой перемене, когда все обедали тем, что принесли из дома. Я подошел, когда она в компании девчонок ела сало с хлебом и огурцом.
- Чего тебе? - презрительно окинула взглядом.
Тоже мне принцесса.
Я спросил:
- Расскажи, почему Иосифа должны забрать шептуны?
Она посмотрела на подруг. Затем прижала палец к губам.
- Тсс... Все, что я сейчас расскажу, останется между нами. Наша Библиотекарша положила на него глаз.
- И что? - удивлённо переспросил я.
- Ты что? Действительно ничего не понимаешь или только прикидываешься таким тугоухим?
Сказала и нахмурилась, краснея. Поднялась с широкой лавки в буфете и нависла надо мной, словно маленькая гора, в лаптях, в пёстром цветастом платье, толстом шерстяном свитере и большом платке.
- Расскажи мне всё, - возмутился я её порывистости. - Ты же знаешь – никому не расскажу.
- Расскажем? - спросила Дина, обращаясь к подругам. Те замолчали, пугая меня, а потом дружно закивали.
Дина улыбнулась и сразу стала мне симпатична. Я уже знал: её настроение менялось в одно мгновение. Про таких людей говорят: семь пятниц на неделе.
- Приходи после уроков на остановку. Там и поговорим.
Я кивнул, уходя в класс. Голод мучил меня. Один лишь кусок хлеба всухомятку ни на грамм не насытил меня.
Уроки проходили медленно, словно время застыло, превратившись в кисель, а может, всё замедлилось просто оттого, что я был голодный. Мой желудок урчал недовольный, ведь я даже воды не попил. Но на это никто не обращал внимания. В классе привыкли. Лёгкий голод был нормой. Даже у учителей часто животы урчали, требуя еды.
… Остановка. Маленькая деревянная скамейка, зелёная краска которой облупилась и вспучилась. Здесь всегда нужно было сидеть осторожно, чтобы не заскоблить себе ненароком занозу.
- Пришел всё-таки, - сказала, а у самой глазёнки зелёным огоньком поблёскивают. Дина в этот момент напомнила мне кошку, такая же холёная.
- А где подружки твои, потеряла? - спросил я, чтобы скрыть, как урчит у меня в брюхе. Не вышло. Она услышала, а я чуть не сгорел от стыда, краснея и жутко злясь на себя из-за этого.
- Голодный, небось, - сказала и улыбнулась. А на щеках показались ямочки. Милые такие и веснушчатые.
- Голодный, - ответил я, кутаясь в серую фуфайку.
Пронизывающий ветер продувал насквозь. В ноябре ожидались заморозки.
Ни с того ни с сего она вынула из сумки яблоко, протянула мне, робко сказав:
- Угощайся. И не смотри на меня, я сыта, а ты ешь и слушай.
Я куснул красное яблоко. Сочное. Зимний сорт, крепкая кожура. Было так вкусно и так сладко стекал по губам сок, что я облизнулся.
Дина начала историю.
- Микко, ты недавно приехал сюда и многого не знаешь. Я тебе вот что скажу: мне моя бабушка рассказала, что библиотекарша - ведьма и лучше держаться от неё подальше.
- Как? - изумился я.
- А вот так запросто. Ты слушай и не перебивай, а то я разозлюсь и уйду. Сама не знаю, почему помочь решила. Жалко тебя, и Иосифа жалко. Хоть он и богатей, но всё же маленький ещё. У нас говорят: у кого печаль выела сердце насквозь, а глаза запали от горя в глазницы - в тот момент, когда человек падает духом, он становится добычей. Не важно, сколько ему лет, сколько денег имеет. Шептуны чувствуют его боль и призывают. А библиотекарша - их проводница. Все знают об этом, но молчат. Боятся ведьмы. Но я так не могу больше, я не могу чувствовать себя виноватой. В позапрошлом году в лес ушёл Антон, у которого трактором задавило пьяного брата. Теперь Иосиф. Его мать умерла, и его приметили.
- А как же его отец, бабка?
- А ну их. Они старые. Ведьма выбирает, кто повкусней, помоложе - так сказать.
- А… - открыл было я рот и замолчал. Во всё это верилось с трудом. Сказка она сказка и есть. Былью здесь и не пахнет. - А что делать-то? Я тут при чём? Вы боитесь ведьмы, а я что - леший? Как я могу ему помочь?
- Я думаю вот что. Если ты не пустишь его в лес в особый день, то она его отпустит. У нас же как всё получается? Уходят всегда строго по порам года. Так, если не ошибаюсь, моя бабуля говорила. Последний день октября, сочельник, первого мая и вот - вспомнила - двадцать первого июня, когда день самый длинный.
- Ты так много знаешь, - удивился я.
Я растерялся, и, признаюсь, мне стало любопытно. А вдруг всё правда, а вдруг не врёт и искренне помочь хочет? Верить или нет - времени обдумывать нет. Месяц заканчивался через два дня.
- Я помогу тебе, только обещай, что пойдём караулить Иосифа вместе. Засиделась я. Скучно.
- Книжек много читаешь, - буркнул я, - совсем как Иосиф. Ну что мне делать с тобой? А, была не была. Радуйся, Динка, уговорила, встретимся в десять!
- … И что было дальше, дедушка? - спросил светловолосый Александр, вставая с берёзового пня, подходя ближе к деду. Микко улыбнулся. Он любил своего внука, совсем не похожего на его сына.
- Интересно? - спросил он, глядя на Диму.
Он молчал и хмурился, а Александр, сказал, обнимая его за шею:
- Ну, продолжай, пожалуйста!
- Одну минутку, - сказал дед, кряхтя и вставая с кресла. - Подождите чуток, я отлучусь и мигом приду обратно.
Микко пришёл с большой кружкой кофе и парой штук овсяных печенюшек.
- Держите, балбесы, угощайтесь, - ласково сказал он подошедшим внукам. Дед и сам отпил глоток, зажмурил глаза, наслаждаясь, а потом продолжил рассказ. - Так, на чём я остановился? Ах да, вспомнил, - почесал он седеющую макушку. Волосы у деда, несмотря на возраст, были чёрными и только буквально пару лет назад, когда ему исполнилось шестьдесят восемь, стали слегка седеть на висках и затылке. - Конец месяца наступил внезапно. Уроки, школа, домашние обязанности пролетели, закрутились, как карусель, промелькнули, словно мгновение. Казалось, сегодня я проснулся, а на дворе уже вечер. И страшно, и боязно идти следить за Иосифом.
Но обещания надо выполнять, иначе сколько тогда стоит моё слово?
И вот - часиков в десять, когда мои уставшие родители видели третий сон, я выбрался через окно в крохотной спальне, погладив по голове Бима – это гладкошёрстный пёс, дом наш сторожил. И пошёл, направляясь за дом, чтобы перелезть через забор там, где возле парника находилась старая рама. На неё удобно ставить ногу. Ведь я невысокий, и до верхушки забора мне трудно достать.
Перелез, подтянулся - и вот я уже на улице, широкой, с длинными канавами для сточных вод и глиняной колеёй.
Бим фырчал и радостно сопел из-за двери.
- Сейчас, мухоморчик старый, сейчас покормлю, потерпи, - ласково приговаривал Толик.
Отряхивая куртки и оставляя ботинки на веранде, ибо замаялись так сильно, что не было сил очищать подошвы от грязи, вошли в дом.
Толик поделился банными пластиковыми шлёпками. Их никакая проказа не брала.
Бим вилял хвостом и даже не пытался ухватить за пятки. Вот как обрадовалась псина, позабыла обо всём привычном.
Руки, лица обмывали в раковине, щедро намыливая хозяйственным мылом. Вода плескалась и свистела рыжиной. Брр. Холодная.
- Сколько времени, а дед, как думаешь?
- Если бы умел определять, то давно б разбогател. Живот урчит ещё с утра. Так что для меня всё одно: и ужин, и обед.
Хмыкнул Толик в ответ. В домашнем, растянутом полосатом халате он напоминал тощего горбуна из Нотр Дама, фильм такой был когда-то. И не поверишь, что пару лет назад Скворцов весил больше сотни килограммов, да и гораздо выше был ростом. Лишь мельком видел однажды Серов обвисшую кожу на животе, что Толик подпоясывал ремнём и обвязывал эластичным бинтом, скрывая под одеждой ото всех. Той кожи хватило бы не один барабан натянуть. Увиденного хватило, чтобы мороз прошёлся по коже.
Ух, жуткие вещи на свете происходить стали, и не привыкнуть к ним, сколько бок о бок ни притирайся.
А сам Евгении Петрович в этом плане был, как заговорённый, разве что мочевой пузырь чаще беспокоил. Увы, ни ясный ум, ни профессорская степень, ни знание двух иностранных языков не предоставили ему места в убежище. Оказался слишком старым и нищим, чтобы быть полезным обществу.
Выпили спиртику, по глоточку. Закусили выбеленным от времени горьким шоколадом. Эка, действительно у Скворцова имелась в запасе роскошь... Отпустило. Согрелись.
Поели панировочных сухарей, размешанных в кипятке. Вкусно. Сытно. Спать охота. Закутались, сидя на диване, в проеденный молью шерстяной плёд, поджав под себя ноги. Бим улёгся на ветхий коврик, задремал, сопя.
Штор на этом окне не было. За стеклом виднелось неизменное тоскливое серое небо.
- Так и быть, оставайся ночевать, дед. Печку растопим, с чердака поможешь остатки буфета вытащить. Еще чем вкусным угощу и радио включу, вдруг услышим что?
Вот так поворот. Подобное предложение Толик делал не часто, а если честно, то вообще оставаться с ним на ночёвку никогда не предлагал. В благодарность от скупердяя изредка можно было только дождаться глоток спирта на лечение ногтей, кусок хозяйственного мыла или что из еды, но мизерное, курам на смех.
- Хорошо, - согласился Серов. Признаться, в старую холодную хату возвращаться ему не хотелось. После прошедшей бури через щели столько пыли набивалось, что дышать будет нечем. А он слишком выдохся, чтобы тратить вечер на уборку, а потом ворочаться, пытаясь согреться в холодной постели.
За окном завыл ветер, и вдруг начался дождь. Зеленоватые, фосфоресцирующие капли смывали со стёкол ржаво-серую пыль. Двое стариков замерли у окна, как загипнотизированные, не в силах отвести взгляда от капель.
Дожди в последний год шли редко, а раньше, если начинались, то предвещали нехорошие перемены. Серов поёжился. Толик опешил, подбородок полковника дёрнулся. Он, глядя в окно, вдруг начал нервно почёсывать лысую голову. Все повторяя шепотом:
- Вот же чёрт, дед. Вот же, ссука, подвалило дерьма.
Вдвоём полезли на чердак. Копались в кучах, покрытых пылью и паутиной, вещей. Свеча в банке чадила. Серов нашёл фотографию в рамке, из любопытства обтёр рукавом фуфайки стекло. Улыбающее семейство на снимке в берёзовой роще, с внучкой на руках и Скворцовым, тогда ещё крепким, толстым и высоким, с зубастой, как у хищной акулы, улыбкой до ушей. Сейчас Толик стал практически беззубый. Евгений Петрович отложил в сторону фотографию. Во рту появилась горечь, и захотелось сплюнуть вязкую слюну.
- Алё, дед, давай, помоги. Я нашёл, - позвал Толик откуда-то слева.
Вместе потихоньку вытащили вниз обёрнутый целлофаном буфет. Потом Серов рубил его топором, как можно мельче, чтобы деревяшки проходили в печь. Как закончил, то сидели у печи, греясь.
- А помнишь ли, дед, как в город ездили?
- Помню, конечно, - ответил Серов, А в памяти сразу возник набитый поселковыми грузовик и долгая, нудная дорога под брезентом в разрушенный город. Ярко вспомнилось, словно вчера было, как ехали, прыгая колёсами на ухабах и колдобинах. Женщины с торбами, сумками, пакетами в руках.
- Эх, кто мог подумать, что всё вот так сгинет. Что многоэтажки в землю провалятся, и пылью всё сверху засыплет. Знал бы, пешком ещё бы не раз сходил, сил ведь пару лет назад ещё хватало.
- Грех тебе жаловаться, Толик, у тебя и без вылазки жратвы хватало…
Скворцов в ответ покряхтел, сердито глянул, крепко сжимая пальцы на кочерге. И неожиданно добавил:
- Не харчи мне требовались…
Весело потрескивая, горел огонёк в печи, ярко-оранжевый, радовал душу. Вот только в дыму всё равно ощущалась неприятная пыльная едкость.
- Скажи тогда, зачем ты вообще в город ездил? Всем всегда интересно было, что ты в пакетике из зоомагазина привёз такое, что машину задержал, один по городу до последнего рыскал…
Рассмеялся Толик, ответив:
- Ах, это…. - И голову вверх, к потолку поднял, неожиданно сказав, мол, хочешь, покажу.
Серов кивнул. Уж очень любопытно стало.
Бим дремал возле печного щитка, там, где потеплее, жалобно поскуливая во сне. Хвост собаки легонько бил по полу. Наверное, и ему снились свои кошмары.
Через гостиную вела крепкая, запертая на ключ дверь в кабинет Скворцова, где раньше, по словам Толика, находились красивый антикварный стол и бар. Теперь же от былой роскоши остались только пятна на стенах от картин да лакированные, крепко прибитые рога оленей. В пустом аквариуме на дне лежала галька и ракушки. Окон в кабинете не было. У стены находился походный матрас и подушка, на ней много коробочек от лекарств и аптечных пакетиков. Раскрытый чемодан на полу переполняли вещи: были там и пачки денег, завернутые в целлофан. В стеклянных банках, выставленных вдоль стены, на донышках остатки круп. Рядом частично вздутые жестянки с консервами. Растительное масло в пятилитровой пластиковой бутыли. Горы свечей, спички, начатый блок сигарет. На таком пайке ещё можно было ого-го сколько протянуть.
- Эх, ты хомячина… - невольно вырвалось у Серова. Он поставил свечу в банке на пол.
- Я ж не лошара какая, в жизни всего сам добился. Голова работала, план составил, так ещё в армии учили – не зевать, а в любой ситуации искать возможности, - недобро зыркнул Скворцов, насупившись. И весь, как пружина, сжался, словно ударить собирался или обороняться.
- А я тебя ни в чём не обвиняю, Толик, успокойся. Жизнь – она такая, дама стервозная. Никого не щадит.
Толик хрипло рассмеялся и спросил, что он на ужин хочет.
- А чего дашь, то с удовольствием и съем…
Персики в банке Скворцов прихватил, риса щедро отсыпал в пакет, захватил из консервов кильку в томате. Серова харчем в обе руки нагрузил. Потом себе по лбу чуть ли не хлопнул и вытащил приёмник из-под матраса на полу. Там же, в жестяной коробочке, были к нему батарейки.
- Ничего себе! - Серов обрадовался приёмнику больше, чем еде. Прямо сердце ёкнуло.
Последний приёмник в селе испортился полтора года назад, когда батарейки закончились. Его староста самолично ногой со злости растоптал. Да и тогда, сколько ни включали, кроме статики помех, ничего не слышали.
- Все сдохли, и мы здесь окочуримся! Недолго осталось – коптить воздух! - вопили ополоумевшие от голода и болезней бабки, шатаясь по селу. А потом и вовсе пропали. Дольше всех протянул староста, но и его скрутило: прямо на улице упал и начал блевать кровью. Мясо-то забитых бабок заражённым оказалось.
Только одной пенсионерке из их села повезло. Кошатнице Марье Ивановне. Родственники в убежище забрали, а она и ехать не хотела, ревела, упиралась. Трёх кошек оставлять не хотела, но всё равно забрали. Самая молодая из женщин в селе была.
Кошек, конечно, соседи съели не раздумывая.
Серов лопатой от старосты и вилами оборонялся и голодать умел: детдомовский был, таким не привыкать. Да и припасов у него было по минимуму.
Скворцов же стрелял метко, патронов хватало, но их он экономил, а отпугивать попервости грабителей получалось и солью. Позднее, когда село практически опустело, пригодились Толику и патроны.
Озверелые старые, больные и голодные люди становились всё отчаяннее. Трупы с энтузиазмом утаскивал староста.
Дождь превратился в ливень. Грохотало. Яркие зигзаги молний рассекали небеса. Приемник выдавал ту же статику, как раньше, раз за разом.
Дружно, с аппетитом поели рисовой каши с горьковатой, просроченной килькой в томате, затем устроились отдыхать на диване. По очереди гладили Бима, разрешив забраться на диван. Так было теплее.
- Помнишь, что говорили, а дед?.. - начал Толик.
- Помню… - Разговаривать и вспоминать былое нехорошее не хотелось. И чего Скворцова снова понесло.
- Ну, так это… Мне кошмары сразу сниться начали, когда оповестили про метеорит. Снится, зараза, что падает он, огромнейший, и города-убежища подземные разрушаются. И дочери моей с внучкой и зятем бежать некуда. В ловушке они оказались, понимаешь?
Серов кивает. Но не говорит, что ему снов не снится. Вообще никаких. А так хотелось бы увидеть хоть на мгновение во сне жену и сына. В воспоминаниях их лица блекнут. Спасают лишь фотографии.
- Вот честно, когда бомбили, не так страшно было. Думал вообще, что меня в армию призовут. Отдать долг родине. Вот где славная, достойная смерть, а не это мытарство. А потом, помнишь, когда учёные забили тревогу, объявили об огромном метеорите, который по всем расчетам, даже если пальнут с космического защитного пояса, всё равно не поможет,… Его обломки, слишком, ссука, большие, уничтожат всё живое. – Толик вздохнул и продолжил: - Ишь ты, как клопы, зашевелились. Что в жопу шило засунули те китайцы, да наши олигархи объединили усилия и муравейники подземные сооружать начали.
- Всё равно несправедливо, правительство с семьями на Марс отправилось, в колонию. Под купол, в безопасность. Чувстовавали гниды, что муравейники – так, блажь, отговорка. И всё равно стариков списать решили. Мол, должен быть естественный отбор, а мест мало… Паскуды, – кашлянул Скворцов.
Серов промолчал, но глянул уважительно. Что-то, а правду-матку Толик рубил ого-го как рьяно.
За окном стало белым-бело от дождя. Громыхало всё сильнее. Всё ближе. Молнии лютовали, раздирали серое, словно мёртвое, небо на куски.
- Ух, ты, неужели град! - воскликнул Толик и даже привстал.
Забарабанило кругляшами-льдинками по карнизу, по крыше.
- Давай ещё раз приёмник включим, послушаем, - неожиданно попросил Серов и зевнул. Так сильно захотелось вдруг услышать человеческий голос. Просто, чтобы знать, что не одни они в мире остались, что не вымерли все, как предрекали бабки-кликуши.
- Хорошо, - ответил Толик, снова вставляя в приёмник батарейки.
Шипенье статики. Тишина. Раскатистый грохот грома.
- Внимание всем… - шипящее полуразличимое, словно не настоящее…
- Ох, ты ж ссука! - подпрыгнул Толик, чуть не перевернув приёмник на полу. И тут же хватая его и увеличивая звук.
- Внимание всем. Внимание всем. Тревога. Тревога. Это не учения. Проводится немедленная эвакуация. Срочно покиньте поверхность и спуститесь в Убежище… - От громкости стало больно ушам.
- Что? - выдавил из себя Толик. Руки затряслись. Радио заглохло.
- Успокойся, давай. Успокойся, - на негнущихся ногах Серов встал с дивана, забрал радио.
Толик всполошился, бегал по дому, не находя себе места. Проверял запертые окна и двери. Чувствуя тревогу хозяина, залаял, затем завыл Бим.
- Пошшёл прочь! - топнул ногой Толик и саданул собаку в бок.
- Надо внести в дом ботинки, пропадут еще, и закрыть чердак. Да!.. - зашёлся в сильном кашле Толик, разбрызгивая по полу кровь.
Серов успел подхватить, помочь сесть на диван. Утер рот Толику полотенцем. Затем налил полную рюмку спирта. Заставил Толика выпить.
- Спасибо, дед, - тяжело выдохнул Толик и вздрогнул.
Дождь закончился. Стало очень тихо. Серое небо со всех сторон медленно заливал алый, как кровь, багрянец.
Завыл Бим и умолк. Толик поманил его к себе, погладил по голове, что-то ласково сказал, почесал лохматые собачьи бока.
Скворцов замолчал, поднял голову вверх, решительно посмотрел на Серова и попросил принести пакет из кабинета, оставленный на подушке, тот самый – с логотипом зоомагазина.
- Пожалуйста, Женька, очень тебя прошу! - впервые за годы знакомства Толик назвал деда по имени.
Даже сквозь плотные шторы проступал багрянец с улицы, окрашивал комнату в кровавый цвет.
Всегда, сколько помнил себя Серов, были силы, а сегодня вот и ноги отказывались идти что-то делать. Пальцы дрожали, холодный пот выступил на лбу, пропитал рубашку на спине.
Как же долго Евгений Петрович провозился с ключами, пока отпирал кабинет. Запыхался и весь взмок, пока принёс названный пакет.
В пакете оказалась единственная ампула да одноразовый шприц.
- Я думал, что для себя придётся оставить, а вот как оно вышло, - выдохнул Толик. - Не бойся, Бим. Обещаю, ты просто заснёшь.
В собачьих, красноватых от света за окном глазах поблёскивала надежда и тоска.
За окном гудело всё сильнее, не раз задребезжали, вздрагивая, стёкла. Снова начался дождь. Он проливался красным, с прорехами оранжевого цвета, как огонь. Капли с шипеньем испарялись со стекла.
- Уф, как жарко! - выдохнул Серов, утирая пот со лба.
Толик, закусив губу, сосредоточенно набирал в шприц прозрачную жидкость.
- Одна ампула в упаковке осталась цела. Я все, что мог, из зоомагазинов обегал, все, что не разрушены были, поэтому и машину задержал. Эх, ссука, значит, видимо, такая судьба…
- Иди сюда, Бим.
Собака жалась к ногам хозяина, скулила.
Укол был быстрым, неожиданно ловким.
- Вот и всё, родной. Засыпай, - сидя на коленях, нежно гладил пса Толик. Его голос дрожал, на щеках блестели слезы. Бим посмотрел ему в глаза в последний раз. Затем дёрнулся и больше не шевелился.
Оранжево-малиновый огонь разгорался в небесах. По просьбе Толика, Серов отодвинул шторы.
- Ты ж знаешь, Женька, я ведь никогда не пасовал и не плакал, даже когда шёл под пули, - дружески выдавил Толик и протянул дрожащую руку. - А сейчас посмотри на меня – реву, как баба.… Вот же бляха-муха.
- Ты не один Толик. Это главное, друг, - сказал Серов, срываясь на хрип, и крепко сжал пальцы полковника. Горячие слёзы текли из глаз помимо воли.
- Спасибо тебе за всё, Женька. Ты вот действительно человеком остался, а не поганью треклятой, как я… - горько улыбаясь, хмыкнул Толик.
Багряно-жёлтый, нестерпимо яркий свет пламени пропалил насквозь небеса. Ухнуло. Засвистело и мощно загрохотало.
Старики крепко держались за руки и смотрели, как с летящим метеоритом падает раненое небо на землю. Пока не ослепли. Взрывом выбило стекла. С толчком оба упали на пол. Руки друзья так и не разжали, а дом сплющился в одно мгновение и словно растаял.
Серов Евгений Григорьевич по-деревенски привычно вставал без будильника ни свет ни заря.
И сейчас тоже встал, хотя за окном давно уже никакого солнца, звёзд и облаков не видно. Серое небо всегда оставалось неизменным.
Хотелось бы заснуть, себя побаловать, но вот уже лет десять, как семьдесят исполнилось, больше пяти часов в сутки спать не мог. И днём, как ни крутился, сколько овец ни считал, ничего не помогало.
… Желудок рефлекторно потребовал еды, пришлось подниматься.
Вскипятил чайник, благо в уличной колонке ещё можно было набрать воды, пусть идущей со свистом и ржавой. Процедишь через марлю, затем вскипятишь и пей себе на здоровье. Вместо чая были у деда просроченные пакетики травяного сбора «лероса», а то он и вовсе пил просто кипяток, чтобы заморить червячка.
На завтрак огурцы из банки, горсточка риса, с иссохшими трупиками моли. Сытнее будет – считал Евгений Григорьевич.
В хате пыльно, сердце деда ныло от пустых книжных полок. Книги были давно спалены, как и практически вся мебель.
Обувшись, Евгений Григорьевич нацепил на истоптанные туфли галоши. Единственная вещь, кроме продуктов, которая действительно ему пригодилась, когда дружно – всем селом, двинулись затариваться в опустевший после бомбёжки город.
Толку теперь никакого от новых грабель, удобрений для полива, резиновых рукавиц и целлофана на грядки.
Погода сейчас практически всегда либо сухая, с пыльными бурями, либо настолько влажная, что топчешь ядовитую грязь месяцами, а дождь светится голубым и зелёным да фосфоресцирует, как глубоководные рыбы в океане... Интересно, а что там осталось от океана?
Евгений Григорьевич прислушался, выходя из хаты. Тревожно вдруг стало, до тошноты. Тихонько скрипел в поисках щелей в окнах да на чердаке ветер. Но не успокоили на этот раз деда мысли о возможной очередной пыльной буре.
К Скворцову, или просто Толику, путь проходил через всё село.
Хаты по соседству рассыпались, что обломки кораблекрушения. Все как одна развалюхи, гнилые и без крыши.
На дрова не годятся, из-за едкого мха на стенах и грибка, проевшего насквозь брёвна. Спалишь такой древесины, надышишься спорами и, считай, покойник. Мучиться будешь так, что даже немцы во вторую мировую с их газом окажутся не так страшны.
Упёртый Скворцов, что баран, хоть и на двадцать лет Евгения Григорьевича был моложе, язвил, постоянно называл Серова дедом.
Бим, тощий, с вылезшей на боках шерстью пёс, десяти лет от роду, подслеповатый и глухой, но верный, до хрипоты и беззубой хватки за пятку встречал гостя лаем за дверью. Отучил его Толик от двора, намазывая лапы, солью и хозяйственным мылом, чтоб неповадно было. Сейчас бы уже не отучил, ибо в земле непонятная хренотень развелась, что даже железные лопаты у сарая проржавели и рассыпались. А собака та лапками походит, потопчет да оближет: сама заразится и в дом заразу принесёт.
За пять лет наблюдений, как пустеет село, всякого с Толиком насмотрелись. Хватило, чтобы только кошмары видеть. Вот Толик и видит.
- Здарова, дед! - буркнул Скворцов, анемично тощий, сутулый и плешивый мужик, с виду старше восьмидесятилетнего Евгений Григорьевича лет эдак на двадцать. И не поймешь, отчего так вышло. В условиях же одинаковых жили, одно и то же ели. Может, просто из-за хронических заболеваний изначальных так сильно вдруг разом сдал Толик. Вот же ёлки-палки.
- И тебе не хворать, Толя. Ты как? Пойдёшь со мной за дровами прогуляешься, потихоньку?
- Эх, ссука, пойду, - кряхтя, поднимая голову, ответил Толик. - От скуки ещё херовей. Может, и разойдусь. Заходи, дед, не стой на пороге. Холодно.
Дом Скворцова кирпичный, самый видный и тёплый в селе Яровое. С водой, бойлером, газом и туалетом внутри. Все условия. Обустроил, как ни крути, для хорошей жизни в старости Толик на пенсии полковничьей.
Теперь газа нет ни у кого, даже в баллонах – и то не осталось. Хоть вода каким-то чудом ещё подавалась в кран. Вот и не верь в Бога.
- Цыц, - привычно отогнал Толик Бима. - Сидеть, свои.
Своим стал для Бима Серов за пару лет знакомства со Скворцовым. Старый пёс еле лапами шевелил, зубы практически все, как у хозяина выпали, всё равно выслуживается, пытается гавкать, а выходит фырчанье, летит на облезлый линолеум слюна из чёрной пасти.
А раньше Бим всё ухватывал за край штанов да за пятку, гонял соседских котов. Никого не пропускал на огород, преданно сторожил и днём, и ночью.
Досталось и собаке во время лихих времён, когда отстреливался Толик в своём доме от обезумевших, оголодавших сельчан, рвавшихся к нему в дом за припасами. Оттого Бим глуховат стал да прихрамывал.
Хорошая тёплая куртка Скворцову велика стала. Рукава засучил, а когда сутулится – вообще страшно смотреть: свисает полами до пола. В доме Толика пыльно, но пахнет табаком. На столе графин с медицинским спиртом и рюмка.
- Угощайся, дед, давай, смелей. Согреешься, пока я сумку найду. Окаянная зараза, где-то завалялась.
Раз угощает, значит в настроении сегодня Скворцов. Может, кошмары не снились? А может, хоть раз не проснулся в слезах да обмочившийся. Тому явлению Евгений Григорьевич не раз свидетель был. Заметил, слишком рано, без часов-то, в гости заявляясь.
Подслеповатый Толик мог искать свою сумку часами, отказываясь от помощи. Но сначала Скворцов, матерясь сквозь зубы, выискивал в практически пустых комнатах извечно пропадающие очки.
От такого угощенья, как медицинский спирт, грех отказываться. Чуток поломавшись, поглядев на задремавшего в углу Бима, Евгений Григорьевич не устоял. Глоточек спирта мог хоть на денёк, да скрасить жизнь.
Серов передумал, мельком оглядев левую руку. Ногти снова слегка позеленели. Хмыкнув, дед, вытащил из недр кармана телогрейки пародию на носовой платок, сделанный из шторы. Открыв графин, смочил кончик платка спиртом, затем приложил к ногтям. При соприкосновении зашипело и стихло. Вот бы такое лекарство Евгению Григорьевичу каждый день, тогда бы уж точно вылечился. А так, наверное, зря спирт не выпил.
- Ну что, заскучал, дед? Пошли, а то кости ломит, - высунулось из комнаты из-за худобы похожее на череп лицо Толика. Глаза, чёрные провалы на обтянутом кожей черепе, ввалились так глубоко, что и цвета уже не разглядеть.
В один момент сошёл из себя Скворцов, наверное, когда узнал, что никто в убежище не заберёт. Ни любящая дочь, ни добродушный зять, с которым рыбачили здесь на озере каждые выходные. Вот так останется полковник Скворцов сам по себе в селе, пока не сдохнет.
- Пошли, - отозвался Евгений Петрович.
Бим заскулил, завилял хвостом, упрашивая хозяина взять с собой, опасаясь, что в хате запрут и вдруг больше не вернутся. В старости даже собака больше всего на свете боялась одиночества.
Толиковы сапоги на высокой подошве и шнуровке выдерживали всё. Казалось, сносу им не будет. Всем поселковым они были на зависть.
Сейчас сапоги готовы были свалиться с тонких, что у курей, щиколоток Скворцова. Толик в них и бумагу, и тряпки совал, чтобы как-то носить. Кряхтел при ходьбе Толик, но молчал.
Каждый день выбирали совместный маршрут и в чьи дома заглянут, даже если не раз уже в них заглядывали. Надо же было хоть чем-то день скрасить. Тишина, безделье оглушало обоих, хоть заживо в гроб ложись и старуху с косой жди.
У Толика в сумке лежало ружьё охотничье, тяжёлое. Идёт, кряхтит, сутулится, очки чужие то и дело поправляет на переносице. Ружьё теперь бесполезно, патроны давно закончились, еще когда жутковатые звери из леса приходили в Яровое. Их, и после смерти фосфоресцирующих, как мох и грибки, обросшие на деревянных хатах, есть страшно было. Сжигали, когда была возможность, а потом просто закапывали.
Ну, пусть тащит, пусть Толику спокойнее от этого ружья будет. Что ему, Евгению Петровичу, с этого… Зато Скворцов хоть по пути ворчит меньше.
В селе уже из пригодного для растопки и брать нечего. Пару месяцев назад, как люто похолодало, то всю мебель из хат спалили, полы по досточкам разобрали, а про любимые книги Серову и вспоминать не хотелось.
- Давай здесь остановимся. Вон, видишь, в хате Галки Сорокиной, слева оконная рама целая, - выдохнул, поправляя чужие очки Толик.
Евгений Григорьевич осмотрелся: и вправду, неужели раму проглядели. Улыбнулся, доставая из торбы собственноручно пошитой из плотной шторы, взятой за ненадобностью в одной из покинутых хат, когда все из посёлковых так, не сговариваясь, и брали, кому что надо было. Беспрекословно.
Не отбирая с пеной у рта и не таясь. Как позднее со съестным стало, когда лавка продуктовая не приехала в «Яровое» ни в положенную среду, ни через месяц, ни через два.
Топор частично заржавел, но для дела ещё годился. Таки незаметно пробралась зараза с земли в хату, хоть окна Евгений Григорьевич и не открывал, а ей, проклятой, хоть бы хны.
- Сейчас разрублю, а дрова, как обычно, поделим, Толик.
- Я на стрёме постою, - поглаживая сумку, вдруг раскашлялся Скворцов.
Засвистело протяжно, с уханьем. Вовремя успел согнуться, накинуть на голову капюшон, прикрыть лицо торбой Евгений Петрович. Ветер со всех сторон накрыл, точно колпаком, пылью, едкой, ржаво-серой. До слепоты, до кашля, и не вдохнуть, не выдохнуть. Лёгкие при вдохе аж огнём горят.
Толик хрипел, что-то шипел и упал. Едва что-то видя, действуя скорее инстинктивно, Евгений Петрович схватил Толика за руку, накрыл обеих своей огромной матерчатой торбой и потащил к дому.
С трудом доползли, а когда в открытую дверь ввалились, то дружно зашлись в приступе кашля. Едва закрыли дверь, как она снова вылетела от порыва пыльного ветра. Хорошо, что во всех хатах не раз побывали, оттого можно было сориентироваться.
Спрятались в подпол, а крышку за собой закрыли – и вовремя. Ухнуло ветром, занесло пыли в хату. Отсидеться надо бы теперь, и не важно, что могло бы созреть в земле и на стенах вокруг.
- Спасибо, дед, выручил, - скрипуче, через силу отозвался Скворцов. И снова зашёлся в приступе кашля. Затем вытащил из кармана зажигалку. Вот и не верь сельским россказням, что у Толика в доме полным-полно всего, только сховал, жадничая.
Щёлкнуло колёсико зажигалки. Раз, другой. Голубое пламя осветило стены подпола. На полках стояли покрытые пылью пустые банки, некоторые с чем-то неопределённым, с вздутыми крышками. На стенах нарос грибок, да разветвилась спрутом плесень махровая, фосфоресцирующая, сама по себе движущаяся.
- Давай посидим молча, пока пыльная буря не уляжется, - предложил Серов.
Но Скворцова, как обычно, было не заткнуть. Он всегда так сам по себе молчун молчуном, а когда случается бедовое, выбивающее из колеи, то угомониться, не мог. Шибко разговорчивым становился. А, холера с ним, путь болтает, главное, чтобы по подполу не ходил, а то мало ли что прилипнет со стены.
Серов давно со счёта сбился, сколько раз Толик рассказывал, как раньше беззаботно жил. Как дочке любимой квартиру построил, всё организовал, благо связи были. Никогда и копейки не жалел, всё ей: образование второе высшее, курорты, шмотки дорогие. Даже с бизнесом зятю подсобил. А тут в душу плюнули, что хоть вешайся. Уж лучше бы не обещали, что с собой заберут в убежище. Он и пенсию, хорошую, полковничью, практически всю им отдавал, верил, что организуют ему местечко подле себя. И вещи, как положено, собрал и ждал, всю ночь прождал и так приезда дочери не дождался. Только верный Бим жалобно скулил и в глаза понимающе смотрел. Мол, бросили нас, хозяин. Вот так несправедливо, гадски бросили.
… Сидели долго в подвале, воздух спёртый стал и жарко, но ветер всё никак не унимался. Пыль просачивалась сквозь растрескавшуюся крышку в подпол, благо хоть крышка не деревянная, а смех и грех – из толстого пластика, обитая снизу пенопластом. Вот и сохранилась.
- Ох, херово мне совсем, дед… Поди, помру.
- Держись, Толик! Морду кверху да хвост пистолетом. Рано тебе ещё помирать. Метеорит ещё не прилетел, а ты уже сдаёшься. Забыл, что ли, как зарекался, увидеть раньше Бима конец света.
Хихикнул, гыкнул в ответ Толик и заявил, что вспомнил. Затем в энный раз для собственного успокоения попросил что-нибудь о себе рассказать.
Сплёвывая по очереди мокроту во влажную, чавкающую до, словно дышащих пузырей землю в подвале, начал рассказывать свою историю Евгений Петрович. А как не подбодрить Скворцова, раз очень просит.
Женат Серов был только раз, ибо однолюб. Любимая умерла при родах. А умничка, подающий большие надежды в карьере сын погиб совсем молодым, заболел в командировке. Сказали, что слабый иммунитет, а как потом стало ясно, пытались скрыть одну из первых бактериологических атак террористов.
Вот такие дела. Евгений Петрович продал квартиру в центре, не мог выносить круглосуточный шум, поток людей и автомобилей.
Сам Серов детдомовский, и жена тоже, поэтому родных не было. Друзья, ну что друзья, не будешь же своей тоской мешать чужому счастью. Так и оказался в Яровом. Занялся сельским хозяйством. Мечтал встретить тихую, спокойную старость в окруженье книг, да пластинок. Завести корову, козу, да кур. Успел завести только кур, как в один момент остаток денег от продажи квартиры прогорел в обанкротившемся банке. И судиться было бесполезно. Так и остался без канализации, без покупки парника да без газового отопления. А кирпич, что приобрёл для расширения и утепления дома, так и лежит себе, за ненадобностью. Да кому кирпич надо, когда жрать стало нечего?
- Ну, что, пойдём, дед. Кажется, ветер стих, не слышу его. Етит, твою дивизию, если ошибаюсь?
- Не, правда. Тихо.
Выбрались из подпола. На пластиковой крышке, сверху, как прикипела толстая горка пыли. Как и на полу в хате – повсюду отвратительная ржаво-серая холера.
Евгений Петрович топор хотел найти. Ну как же без него. Измазался в пыли, в грязи, чихал, наконец, нашёл.
- Эх, дед, а дед? Пошли ко мне. Спиртика бахнем, сразу согреемся, - легонько коснулся руки Серова Толик.
Евгений Петрович вздохнул. Согласился. Всё равно в своей хате без дров ночью от холода околеть можно.
Шли, а пыль местами висела в неподвижном воздухе взвесью, чем-то напоминая сеть и паутину одновременно. Аж жутко. Такие аномалии они сразу обходили. А мало ли что? Бережёного Бог бережёт.
Дорога вовсе раскисла. Ноги вязли в тёмной смеси глины, песка и щебня. И он всё-таки несколько раз упал, приземляясь то на руки, то на пятую точку.
Остальные дома тоже не подавали признаков дружелюбия. Ко всему прочему появилось странное чувство: кто-то, затаившись, наблюдает за ним.
На фонарном столбе засела ворона и изредка каркала, вгоняя в дрожь.
Мальчишка добежал до магазина и удивился, увидев на двери замок. Неужели уже обед? Нет. Среда - санитарный день.
Он отдышался. Что дальше? Затем напился холодной воды из колонки, рядом с магазином. Постучал ещё в один дом. Затем в другой. Никого. Тишина. Словно все вымерли. Но никак не давали мальчишке покоя задёрнутые на окнах шторы. А во дворах некоторых домов, как и у Яськи, царили следы разгрома. Белели в грязи куриные перья, усыпая землю, точно конфетти… Вязкие, подсохшие следы крови снова заставили отпрянуть от калитки и от раскрытой настежь двери в чужую хату.
Олежка испугался до одурения. Страх возрастал юркими змеями в кишках, не давая заходить в дома с открытыми дверями. Мальчишка упрекал себя за трусость и глупость самыми "грязными", на его взгляд, словами, потому что забыл телефон в хате. Еще не взял с собой сто рублей, давнишний подарок от отца. «Идиотина. Дурында. Лох педальный».
Но ведь он надеялся, что успеет вернуться до темноты в хату, чтобы забрать телефон и вещи, а потом сразу же бежать на остановку.
Похоже, бабка Яська, в кого бы она ни превратилась, днём пряталась. Только вот куда же все соседи-то подевались?
Олежка постоял на перекрестке, поглядывая на перекопанные огороды, тёмные от дождевой воды. Что-то булькнуло, колыхнулось в земле и, как выпуклый плащ, на мгновение оторвалось, показавшись в воздухе, затем снова припало к почве.
Точно и не было ничего. Прошла минута, другая. Дрожащий Олежка всматривался в подозрительное место, и чувство, что за ним наблюдают, усилилось.
- Мамочка, что это такое было, а?! - выдохнул он и побежал к хате бабы Яськи, думая, что сейчас совсем одуреет от страха и собственных пугающих мыслей.
Он бежал, глядя только вперёд, больше не оглядываясь ни на огороды, ни на мельтешащие мимо от быстрого бега редкие дома и хаты.
В хате бабки Яськи всё было по-прежнему, и всё же что-то неуловимо изменилось. Но только что?
Олежка подобрал с пола упавший телефон, положил в маленький рюкзачок. Внутри, под подкладкой, лежала скрученная сторублёвая бумажка.
Он вздохнул, услышав скрип двери, и, бросив тоскливый взгляд на свитер, схватил палку, служившую подпоркой стола, направился к двери.
Шуршание.
Олежка так крепко сжимал палку в руках, что заболели пальцы. Бабка Яська сидела под столом. Вещи туго натянулись на плотном теле, раздутое лицо было серым и странно перекошенным, точно отекло по краям. Изо рта капало. Она что-то сказала, вроде: «Внучок, поди-ка сюда!», и выпростала вперёд синюшные руки с длинными, извивающимися, как черви, пальцами.
- А-а-а!!!! - завопил Олежка и, выронив палку, бросился прочь из хаты.
Оцепенение исчезло. Хотя от страха аж зубы заклацали, и он чуть не прикусил язык. Возле калитки на улицу что-то громоздилось – бугристое, серое, припавшее к земле, как надутое воздухом полотно. Оно подрагивало и будто бы впитывало капли дождя.
Итак, к калитке путь отрезан. Топать через разбухший от воды огород? Олежка замер. Обходной путь отчего-то внушал опасение. Он пригляделся: весь забор облепили такие же, как и возле калитки, серые подрагивающие полотна. И звук тихого шуршания, который он всё время слышал, был вовсе не ветром. Этот звук издавали они. Чудовища.
Бабка Яська вывалилась из хаты и поползла к нему, двигая руками и ногами, как краб, и низко пригибая голову. Олежка отступил и спиной упёрся в дверь сарая, из которого пахнуло отвратительным смрадом.
Скосился на дверь, с виду довольно плотную и с двумя щеколдами как изнутри, так и снаружи. Правда, в сарае нет окон, и что-то подсказывало Олежке, что и лампочка внутри тоже, скорее всего по закону подлости, не включится.
Обычно в сарае часто блеяла коза Дуська и хрюкали две ладные свиньи, сидевшие за перегородкой. Он увидел, как мелькнул в сарае пушистый хвост Шкуры, вздохнул, поглядывая на изрытый огород, земля которого набухла и, словно на дрожжах, подросла вверх. Комья грязи образовывали небольшие холмики, точно на огороде порезвился огромный крот-мутант и вырыл себе тоннель.
Потерялась ещё секунда на раздумья. С крыши дома на спину Яськи спикировало то, что с виду напоминало вспученное полотно. Вблизи оно выглядело по-другому: на бугристой, точно в нарывах, шкуре периодически открывались прорези длинных ртов, выбрасывающих хоботки-присоски.
Олежка вздрогнул: Яська, опустив голову, замычала.
Страшно лезть через огород, изрытый вдоль и поперёк. Да и неизвестные твари на заборах…. Всё это разом внушало Олежке ещё больший ужас.
Он юркнул в сарай, сразу закрыв дверь на щеколду. О ноги потерлась, замурчав, Шкура. Дернул наудачу шнур, включающий лампочку у потолка, - и зажёгся свет. Ура!
… Олежка блевал в углу. Рвало водой и желчью сквозь слёзы. От любимой бабкиной козочки остались, как в страшной сказке, ножки да рожки. От свиней осталось месиво из кишок и грязной жижи, стекающей со стены. За перегородкой, у стога сена, боком лежала сплющенная свиная голова, выставив напоказ пустоту грязного черепа.
Немного успокоившись, Олежка посмотрел на дисплей телефона. Всего одна полоса батареи. Мать не звонила. А на часах почти четыре. В шесть станет совсем темно, а при такой-то погоде, скорее всего, и раньше. Нужно как-то отсюда выбираться. Но как?
Усталая голова отказывалась соображать. Оставалось только ждать.
Воняло премерзко. Но то ли от шока, то ли от всего увиденного Олежка принюхался к смраду. Сколько же он продержится, пока кровожадная бабка Яська вместе со всеми этими тварями не доберётся до него?
Дверь в сарай плотная, а щеколда хлипкая. Надолго ли её хватит?
Дождь стучал по крыше не так, как в хате, а слегка приглушённо. Вода протекала сквозь дырявую крышу, капая на стог сена и в ведро.
Олежка сидел в углу. Шкура куда-то исчезла. А он, видимо, задремал. Шея затекла, и он донельзя измучился и продрог. В обуви противно хлюпало, и, кажется, подошва одного кроссовка держалась на соплях.
Он хотел есть. Хотел пить. В носу хлюпало. Что бы сказала воспитательница, увидев его таким? Поругала бы страшно, конечно, но для начала бы заставила вымыться. И, наверное, угостила бы печеньем, которое всегда приносила из дома… Олежка вздохнул. Желудок громко урчал.
На часах телефона почти полшестого. Наверное, снаружи уже темным-темно.
- Шкура, кис, кис, - позвал кошку Олежка и встал, чтобы поискать её.
-Ты где Шкура?- спросил он, заглядывая в ведро, на дне которого натекло немного воды. Он зачерпнул её ладошками и напился.
В дверь уже скреблись. Задергалась задвижка. Откуда-то слева, за оградой для свиньи, словно подавая сигнал, громко мяукнула кошка. В дверь крепко бухнули. Раз. Затем двинули так сильно, что она затряслась.
Инстинкт отрезвил, точно ангел-хранитель помог. Страх куда-то пропал. Олежка обогнул перегородку и увидел кошачий хвост, ужом проскользнувший между щербатыми досками в чернеющую яму. Стена над ней тёмная, обросла мхом. Терять нечего… Дверь сарая треснула с новым ударом, и щеколда с жалким скрипом слетела с петель.
Олежка отодрал прогнившую доску от стены и юркнул в вырытую ямку, мысленно благодаря мёртвую свинью, которая так усердно стремилась на волю. А может, животине просто отчаянно хотелось полакомиться топинамбуром, который рос прямо за сараем.
Мальчишку цепко схватили за ногу, сорвали со стопы кроссовок. Но Олежка отчаянно рванулся вперед и выполз на поверхность. И сразу побежал к остановке, во тьме ориентируясь лишь на столбы. Он крепко держал в руках рюкзачок, с телефоном и заветной сотней рублей, которых должно хватить на спасительный билет до города.
Дождь почти прекратился. Дальние фонари едва освещали дорогу. Было ужасно тихо. Шкура тоже исчезла, но он знал, что она держится рядом, точно понимает, точно оберегает его. В это мальчишке хотелось верить. Он почти добежал до магазина. Женский голос окликнул его, заставив сбиться и упасть прямо в лужу.
- Эй, мальчик, чего бежишь, как угорелый? Что случилось?
Невысокая женщина в дождевике вышла из магазина. Жёлтый свет из-за двери приветливо лёг мальчишке на лицо, ненадолго ослепив.
Олежка дрожал, сбивчиво рассказывал ей что-то, едва ворочая от страха языком.
- Помогите… Они гонятся за мной, - выдавил из себя, наконец, и всхлипнул.
Она повела его в магазин. Олежка смотрел на её руки и лицо. Вроде всё в порядке. Никаких синюшных, как у бабки Яськи, пальцев. Нет и припухлостей на симпатичном лице. Голубые глаза женщины смотрели прямо и не лукавили.
- Хочешь чаю? - спросила она.
Затем сняла с него куртку и дала взамен мягкое одеяло. Словно пытаясь успокоить, рассказала, что приехала навести в магазине порядок. Разморозить холодильник. Заодно заказать продукты. Санитарный день сегодня всё-таки.
Олежка дёрнулся, когда запиликал телефон, и еле вытащил его из рюкзака трясущимися руками.
- Сынок, привет, это я. Прости, что сразу не перезвонила. Была очень занята, - оправдывалась мать.
- Мамочка… Мамочка! - взволнованно тараторил Олежка. - Бабка Яся, она… - он всхлипнул. – Она… - запнулся, не в силах подобрать слова, чтобы описать весь ужас, и выпалил: - Забери меня. Скорее забери. Мамочка. Яська злая. Она изменилась….
- Что ты говоришь? Повтори! Не слышу. Олежка. Не слышу, связь хреновая, - громко сказала она. – Я завтра приеду.
- Мамочка, пожалуйста, поверь. Пожалуйста, приезжай. Я в магазине, с тётей,- успел сказать мальчишка, как батарея села и телефон отрубился. Олежка обречённо заплакал.
- Тише, тише, - поднесла ему женщина чашку с чаем и коржик.
Вытерев слёзы, он откусил от коржика, глотнул чая. Прожевал и проглотил. Чуток полегчало.
Дверь медленно начала открываться.
- Закройте!!! - крикнул Олежка, выпуская из рук чашку. Но женщина остолбенела.
В дверь шустро впрыгнула бабка Яська. Прокудахтала что-то. Тут же разбилось стекло, и в магазин влетело кожистое нечто, точно ворсистое полотенце бухнулось на пол.
Олежка ужом забился под стол с весами. Женщина что-то растерянно сказала. Бабка Яська разинула пасть, откидывая голову назад, точно складную игрушку. Из-за её спины выстрелило щупальце, обвив шею продавщицы, продавливая её кожу и впитывая, точно шлангом, кровь, вмиг меняя цвет из серого на алый.
Снова надеяться, что его не увидят, глупо. Бабка Яська куснула женщину за руку и стала жевать её кисть, кровожадно чавкая. Во время жора бабка не отвлекалась, уверенная, что теперь-то внучок никуда не денется.
Летучее покрывало ползло по полу, оставляя влажный след, направляясь к мальчику. Олежка ни на что не надеялся. Он толкнул столик в сторону чудовища, придавив его электронными весами, и побежал к двери. Буквально выкатился на улицу, пролетев через три ступеньки и больно ударившись о плитку – аж в ушах зазвенело. Второй кроссовок слетел с ноги.
Дождь прекратился. Но темнота вокруг как будто сгустилась. Грязь стала вязкой и скользкой. Он встал, пошатываясь, скуля, точно побитый щенок, - и снова с усилием побежал в сторону остановки.
В домах за забором свет не горел. Кошка снова куда-то пропала. Было жутко и практически ничего не видно.
Мальчишка отлично знал дорогу к остановке. Ведь он бессчетное количество раз ходил сюда с матерью да с бабой Яськой. От магазина нужно бежать напрямик. Затем повернуть направо и возле шоссе пройти по узкой асфальтированной дорожке. Там, напротив столбов и частых фонарей, и располагается единственная остановка.
- Божечка, помоги! - Олежка прикусил губу и побежал вперед. Он снова падал, то и дело отплёвываясь от грязи, попадавшей в рот.
Ноги окоченели, руки тоже. Только в груди жарко пылало. Мельком Олежка замечал на огородах плотные тени с большими головами, напоминающие грибы. Часто он слышал чавкающие звуки за спиной и боялся обернуться, хотя задыхался и пыхтел, как перегруженный старинный паровоз.
Шлепки и квохчание доносилось со всех сторон. Он чувствовал, что его окружают. Подступают всё ближе и ближе и вот-вот настигнут.
Знобило. Лицо горело. А тут ещё ветер, который бил в лицо, словно нарочно мешая бежать. Ещё чуть-чуть. Ещё один шаг. «Вот выберусь и буду долго спать. Боженька, помоги!» - молился он, хотя раньше обращался к богу только на Рождество и на день рождения, точно к деду Морозу, прося исполнить загаданные желания.
Сердце в груди тяжело грохотало и колотилось. Тух-тух-тух.
Олежка опять упал и с трудом поднялся. Какое-то время он просто полз.
В небе громко кричали вороны. От жути на Олежку то и дело накатывало оцепенение, но он заставлял себя двигаться дальше. Добрался до конца дороги. Осталось только пройти мимо трёх домов, благо что идти теперь не по земле, а по асфальту.
Света – нигде. Даже фонари впереди еле видны, будто кто-то их нарочно погасил. Неужели в посёлке действительно все вымерли в одночасье?
Вода в дорожных лужах смывала грязь с его ног, местами даже казалась теплой. Олежка больше не мог бежать. Только шлёпал по лужам, пытаясь отдышаться. Тело болело. Зубы выбивали дробь.
Еще пару метров – и будет остановка.
- Уф, наконец-то…
Дошел и посмотрел на телефон: без пятнадцати восемь. Экран, включившись на пару секунд, мигнул и снова погас.
«Дождусь. Дождусь, дождусь», - с облегчением думал он и сел на скамейку, поджав ноги. Голова то и дело свешивалась на грудь. «Не отключайся, ты же мужик. Держись!» - подбадривал себя мальчишка.
Но всё же помимо воли задремал.
… Он кричал во всю глотку, он бежал во всю прыть, а автобус всё быстрее и быстрее уезжал от него. Мальчишка бежал следом. Вопил. Молил подождать. Кричал, надрываясь, - и очнулся.
Подбородок Олежки дёрнулся, с уголка рта стекала нитка слюны. Задремавший было, мальчишка увидел Шкуру. Она сидела на лавочке, рядом с ним, и наводила кошачий марафет. «Заберу её с собой», - решил он, когда услышал шум машины.
«Надо маме позвонить или эсемеску послать, чтобы встретила. Не выйдет. Ах, чёртов старый телефон со слабой батареей… Или, в крайнем случае, у водителя помощи попрошу». Тарахтение усилилось. Шум колёс, прорезающих лужи и рокотание двигателя наполнили сердце мальчишки неописуемым счастьем. От облегчения ему захотелось буквально взлететь.
Олежка подхватил кошку и вышел из-под пластиковой будки, направляясь поближе к бордюру у проезжей части.
Фары приближающегося автобуса имели нездоровую желтизну. Но и этого света хватало, чтобы пробить тьму. Олежка крепче прижал кошку к груди, поправил лямку рюкзака - и бросился к автобусу, размахивая руками. Боялся: вдруг кошмар сбудется – водитель снова проедет мимо, не остановившись.
Маленький жёлтый автобус походил на заказной, в котором проезд гораздо дороже обычного, почти как в маршрутке. Сквозь цветастые шторки на окнах трудно было понять, есть ли кто-то внутри, но по контурам теней Олежка различил: автобус не пустой.
Передняя дверь открылась. Он сделал шаг на ступеньку, схватившись за поручень. Водитель был в кепке и выглядел болезненно тощим, как жердь. Позади водителя, в первом ряду, всё двухместное кресло занимала толстая женщина в жилете кондуктора. Её лицо было скрыто вьющимися волосами цвета ржавчины, а полные руки держали на коленях сумку. Водитель что-то спросил. Что-то про маленьких мальчиков, в такое позднее время находящихся далеко от дома.
Кошка фыркнула, принюхалась и, зашипев, стремительно попыталась вырваться из рук Олежки. Дверь резко захлопнулась. Олежка закричал. Рука кондукторши буквально выстрелила вперед, удлиняясь на глазах, как пожарный шланг, наполненный водой. Синюшные пальцы схватили кошку за голову, сжали её до хруста и потащили прямиком в пасть, из которой навстречу выстрелили мокрые жгутики.
Ноги подкосились - и Олежка чуть не скатился вниз по ступенькам, но, случайно приложившись виском о поручень, пришёл в себя от боли. Водитель улыбался. Только в его рту тоже не было зубов. Какая-то плёнка и шевелящиеся жгутики.
- Давно у нас не было маленьких мальчиков, - произнесло существо в кресле. Оно сплюнуло на пол клочья шерсти, вытащило из пасти хвост и, отрыгнув, выпустило газы, наполнив салон удушливым смрадом.
- Присаживайся, сынок, - всё так же улыбаясь, произнёс водитель. - Мест много. А маленьким мальчикам сегодня проезд бесплатный.
Он гадко осклабился и надавил на газ. Олежка с трудом поднялся на ноги и сел на сиденье. Оглянулся. В конце салона, на полу, что-то лежало. Что-то большое, влажное, серое и напоминающее готовый вот-вот лопнуть мыльный пузырь.
Мысли превратились в кашу. В голове враз воцарился туман - и отчего-то проще всего было поверить, что он спит. Ведь лицо кондукторши менялось на глазах, превращаясь то в лицо бабки Яськи, то в лицо продавщицы, то ещё в кого-то знакомого.
От ужаса Олежка зажмурил глаза.
Его бережно стащили с сиденья и бросили прямиком к пузырю. Он уперся в него руками. Землистый ослизший пузырь был влажным и отвратительно теплым. Внутри него что-то было. Что-то дышащее и живое.
Внезапно пузырь разверзся, исторгнув из себя едкий запах протухшей рыбы и гнилостный - отбросов.
Олежка заорал, стал дёргаться, пытаясь совладать с собственным онемевшим телом, - и до крови прикусил губу.
Липкая плёнка с гадливым чмоканьем прикоснулась к его лицу, ожгла кожу, точно щёлок. Внутри пузыря показалась пасть, наполненная шевелящимися жгутиками. Они извивались и смердели.
Новый булькающий крик умер, едва начавшись. Руки перестали слушаться команд мозга. Ногти безуспешно пытались порвать плёнку: маленькие пальцы были слишком слабы и неуклюжи. Плёнка стремительно залепила глаза мальчишки, закрыла ноздри, рот и устремилась вниз по шее к плечам.
Боль была острой и режущей. Лёгкие от нехватки кислорода горели, будто в огне. Олежка чувствовал, как что-то пожирает его и в то же время изменяет.
Где-то далеко едва слышный, но очень понятный женский гнусавый голос твердил, как диктор в новостях, о необходимой смене мест обитания и о близкой зиме. Твердил что-то о перспективных маленьких мальчиках и о никуда не годных стариках.
Перед тёмным паденьем в бездну перед глазами мальчишки вспыхнуло, точно наяву, лицо отца. «Папочка, ты здесь, со мной», - подумал Олежка и перестал существовать.
Карина работала за барный стойкой всю ночь и ещё пару лишних часов, потому что сменщица заболела.
Клиенты сегодня все как на подбор: с деньгами и чаевых не жалели. Удачная ночь, если бы не одно «но». Голос сына по телефону не на шутку пугал. Его голос взывал к её материнской сути. «Дело – дрянь, Карин. Дело – керосин», - настойчиво твердил он ей. Но эта работа – последний шанс в сплошной череде невезенья и увольнений. Не отпроситься.
Она покемарила в подсобке около получаса, дёргаясь от размытых и оттого ещё более жутких кошмаров. Только в десять утра, с закрытием бара, удалось освободиться. Сразу переодевшись, Карина пошла на остановку и, глянув на расписание, поняла, что успевает на автобус до Рыковки.
Села на скамейку. Припудрила лицо. Подкрасила губы. Но усталость и морщинки у глаз никакой пудрой не скрыть.
Автобус, красный «Икарус», был практически пуст. Заплатив за проезд, она решила подремать. Как-никак Рыковка – конечная. Час езды.
Сын сидел на остановке. Босой. Бледный. Какой-то отёкший и нездоровый. Без привычного рюкзачка. В чужой, со взрослого плеча куртке. Мокрые волосы выглядели грязными и липкими. Пальцы, крепко сжимающие большой горшок с землёй, были неестественно синюшными.
- Сына, сынок, что случилось? - обеспокоенно спросила она, пытаясь его обнять.
Тело Олежки было точно деревянное. Он ничего не говорил и всё время отводил в сторону взгляд.
- Ну ладно, с бабкой Яськой потом разберусь, - грозно сказала она, доставая из сумочки влажные салфетки и новую пару носков, что купила для себя. Ноги сына на ощупь были точно ледышки.
Олежка молчал. Карина чувствовала себя полной дрянью, глядя на его лицо. Сразу вдруг вспомнилось все, что она делала и чего не сделала для него.
- Прости меня, Олежка, прости, - погладила его по голове, решившись вызвать такси. Но, увидев проезжающую машину, вышла на дорогу и помахала. Водитель, пенсионер интеллигентного вида, в очках, остановившись, критически оглядел её и смягчил взгляд, увидев мальчишку.
- Батюшки, что у вас приключилось-то?- спросил он.
- Подвезите до города, прошу вас! Я заплачу.
- Садитесь. Так подброшу, денег не надо,- сказал водитель и открыл заднюю дверь.
Сын не выпускал из рук горшок и долго стоял на пороге квартиры, словно забыв, где находится его комната. Он замер на месте и точно вслушивался в громкий лай соседского пуделя Артемона, жившего за стеной, у одинокой пенсионерки.
- Олежка, быстренько раздевайся, - приказала Карина. - Сейчас воду в ванну наберу, вымою тебя! - крикнула, закрыв входную дверь и убедившись, что он пошёл в свою комнату.
Олежка скинул только куртку. Поставил горшок возле батареи. Затем нагнулся над ним и, засунув ставший удивительно гибким указательный палец в рот, вытащил из гортани сероватую и длинную, наполненную чем-то зернистым жилку. Крякнул, пока она полностью не вышла из горла.
Затем вырыл в горшке подходящее углубление, аккуратно нашарил пальцами сидящие в земле, едва сформировавшиеся жгутики и, подтащив их поближе к дыре, положил туда жилку и быстренько закопал.
Мальчишка чуток постоял, прислушиваясь, как шуршат в земле жгутики, обматываясь вокруг жилки с икринками.
В комнату зашла мать. Упёрла руки в бока и пожурила, что он до сих пор не разделся. Затем подошла ближе и крепко обняла.
Мальчишка вдыхал её запах, который вызывал во рту обильное слюноотделение. Пудель в соседней квартире разрывался от лая, то и дело подвывая, как спятивший. Вдруг неожиданно заскулил и замолк.
«Ну, вот мы и переехали»,- подумал псевдо-Олежка, разбавляя горячую воду в ванне холодной, доводя до приемлемой для себя температуры. Затем он аккуратно залез в ванну, погрузившись в воду с головой. Его новое тело обожало сырость и влагу. Каждая пора и клеточка кожи мальчишки жадно пила, разбухала, росла. Как росло, разбухало и делилось на сегменты то, что было внутри.
Псевдо-Олежка наслаждался купаньем, думая о том, что скоро прорастающие в горшке из икринок пузыри нужно будет кормить, а затем и пересаживать.
Шпокры-мокры, ать, два.
Шпокры-мокры, где жратва...
Шпокры-мокры, ты в дожди
в огород не выходи...
Мерное «как-как-кап» и протяжно долгое, раздражающее «там-там-там» бьющих по крыше дождевых капель мешает Олежке заснуть. За окном, плохо прикрытым ставнями, - глухая ночь.
В старом доме пусто, только полосатая злющая кошка Шкура сопит где-то на печи. Бабка Яська во дворе и уже давно.
Олежка не любит старуху. Да и за что любить сварливую женщину, скупую на ласку, да ещё не родную? Но все равно ему неспокойно.
Дождь немилосердно льёт с мрачных небес уже третьи сутки подряд. Сердитый ветер проникает в оконные щели, посвистывает в печной трубе. «Может, кошку позвать?» - раздумывает мальчишка. Хоть кошка тоже не ласкова, как и её хозяйка.
Шестилетний Олежка крутится на низкой койке с тонким матрасом, из-за которого телом чувствуется каждая просевшая пружина. Даже под его малым весом койка всё равно недовольно скрипит.
Бух!.. В который раз за ночь от ветра стукает о стену ставень. «Ну, куда же подевалась бабка? Почему она не приходит так долго?»
Олежка зевает. Недавний сон ушёл, хотя привычная усталость и тоска никуда не делись.
После трагической смерти отца мать стала пить. Затем уволилась с одной работы, не задержалась и на другой. Вот и нечем стало платить за детсад. И отправили Олежку вместо детского сада временно жить к бабке Яське. К приёмной матери его отца.
Яська растила отца Олежки, а потом, когда отец возмужал, выгнала из дома на все четыре стороны. Так мальчишке рассказывала мать, когда поздним вечером выпивала чуток коньяка и начинала долгий разговор – вместо обещанной сказки на ночь, вместо мультфильмов, которые смотрят дети по вечерам. Рассказывая о бабе Яське, мама рассеянно улыбалась, повлажневшими глазами тоскливо глядя на сына, и то и дело нервно поглаживала и трепала его светло-русые, вечно взлохмаченные волосы.
Холодно в хате. Ветхое одеяло не спасает. Олежка съёживается, подтягивая колени к груди, и всё равно ему зябко.
Старая Яська вечно кутается перед сном, как капуста, а сама жалеет как следует протопить печь на ночь, чтобы Олежке хоть раз за ночь хорошенько согреться.
Из собственной пижамки с колобком на груди мальчишка давно вырос. Штаны коротковаты, кофточка едва налезает, трещит, когда протискиваешь в неё плечи, но всё же Олежка всё равно ею дорожит.
Оконный ставень хлопает всё настойчивей. Он слышит, как кошка прыгает с печи. С лязгом падает задетая ею кочерга. "Яська будет ругаться, - думает мальчишка. - Впрочем, как всегда. Может, встать и посмотреть в окошко?» Беспокойство внутри всё возрастало, а ставень назойливо скрипел да через время от времени хлопал на ветру.
Олежка со вздохом закрыл глаза – и снова открыл, потому что не давал собраться с мыслями и успокоиться противный неутихающий дождь, глушащий в хате все звуки. Может, сейчас Шкура ловит мышь?
Яська часто, когда серчала, говорила ему про мышей, которые тихонечко приходят из-под пола да вылезают из норок по ночам к плохим и непослушным мальчикам, не помогающим своим бабушкам.
«Мыши, - говорила она, - пребольно кусают за пятки, за нос и грызут детские ушки. Их любимое лакомство. А полосатой Шкурке, - добавляла Яська, обдавая мальчишку запахом чеснока и мясного зельца, - скажу, чтобы ночью дала им волю. Не сторожила бы хату, и пусть тогда приходят и искусают тебя, негодный мальчишка!»
Яська, сколько знал Олежка, большую часть дня варила самогон, а потом постоянно, раз за разом посылала его по соседям разносить товар в тяжеленной корзине. Будто и не знала, что у мальчишки кроссовки протекают и носки всего одни, и те на ногах. А резиновые сапоги для дождливой погоды его мама, как назло дома, забыла.
Дзинь. Шпонк. Дребезжала едва сидевшая в гнезде входной двери ручка... Тсик. Тсик. Кто-то настойчиво раз за разом дёргал её, намереваясь войти в дом.
Кто же это? Неужели бабка Яська впотьмах колупается? Она же всегда, даже когда выходила в нужник ночью, брала с собой короткую толстую свечку в стеклянной банке.
От страха у мальчишки вспотели ладони. Тут же холодный пот проступил на спине и потёк вниз липкой, вызывающей гадливость струйкой. «Это не она, не Яська», - шептал, внушая ещё больший страх, собственный внутренний голос.
Старуха, хоть с виду древняя и скукоженная, как высохший мох на замшелой коре дуба, бегала шибко, а как выпьет стаканчик собственной сивухи, то вообще резвой бывает, как козочка, и сразу добреет, сухими баранками Олежку угощает, не жадничает.
Бабка Яська даже с закрытыми глазами, даже на ощупь легко зашла бы в хату.
- Мммур-рур, - жутко и протяжно завывая, утробно исторгла кошка и стрелой пронеслась по полу, топоча, как приглушённая пулемётная очередь. Тр-тр-тррр.
Разом вспомнились приходившие помогать бабке по хозяйству (перекапывать и собирать урожай на необъятном участке за хатой) заросшие и бородатые, как лешие из сказок, мужики. Они воняли так же мерзко, как бабка Яська, хотя и не такие старые.
- Вот пойдут дожди, да, Марат? - хрустел огурцом вприкуску с салом седой, как лунь, усатый мужик с хитрым прищуром карих глаз.
Марат сидел за столом напротив. Внушительный дядька, с бельмом на глазу, в фуфайке, колоритной внешностью и протяжно-булькающим говором вечно нагонял на Олежку неподконтрольную жуть. Он обычно сидел, согнувшись над тарелкой. Сутулый, широкоплечий, с большими руками, ладони в мозолях и с заскорузлыми от грязи ногтями.
- Ага, - бурчал в ответ седому Марат, часто прикладываясь к алюминиевой кружке, которую доверху наполняла сивухой гостеприимная Яська, угождая мужикам за труды на своём необъятном огороде.
- Зальют дожди нашу землю, - продолжал трепать языком седой мужик, - зашваркает от воды под ногами, раздуется перепоенная почва, вот и повылазят со своих нор пузыри шпокры-мокры. Ать, два. Да начнут рыскать в поисках поживы по ночам. Как те солдаты. Тогда держи ухо востро да на улицу по ночам не выходи, а если мерещиться да постукивать в ночи что будет, то лучше лишний раз перекрестись перед образом, крест поцелуй, соль сыпни через плечо, но ни в какую, сука, за порог дома не суйся, каб не сцапали. А то знаешь же, как к зиме готовятся твари. – Бросил в рот кусочек сальца, запил самогонкой и зажмурился седой, продолжил: - Жрут и, чтобы людей морочить, перевоплощаются... – крякнул, отрыгнув, седой, да резко поднял голову, и посмотрел прямо на печку, выставил жирный, вымазанный сальцем палец да погрозил затаившемуся в теплоте, за шторкой, мальчишке. - Мотай на ус, слышь, малой!
- Шитсс, черти старые, брешете всё, что балаболки! - рявкнула Яська и недобро зыркнула на Олежку, приказав немедленно с печи слезать да спать ложиться.
… Мальчишка моргнул. «А вдруг, - закралась жуткая мысль, - её сцапали те самые?.. Нет. Это всё байки. Трёп», - безуспешно пытался он отогнать собственный страх. Всё же встал с постели. Холодный пол студил пятки сквозь стоптанные носки.
- Иии, - пискляво скрипнула входная дверь и резко закрылась.
Олежка замер на месте, услышав шаги по полу. Неспешные и весомые. Топ-топ-топ. Тяжко протопали из сеней в кухню.
Снова жутко замяукала кошка. И Олежке стало так страшно, что мочевой пузырь враз болезненно сдавило.
- Ах… - выдохнул он.
- Ать, ять, хвать, брать, - раздалось с кухни. - Что пожрать, что слопать, - бурчала, непривычно шепелявя, Яська. Вроде и голос был её. Но эта лёгкая шепелявая нотка до ужаса смущала мальчишку.
«Глупости. Хватит уже», - сказал себе Олежка.
"Что ты, как сопляк, вечно сцышь?" - неожиданно басисто прозвучал в его голове голос Антохи, хулигана-подростка, соседа по подъезду.
Олежка вздохнул, снова забрался в постель и, с головой накрывшись одеялом и закрыв глаза, стал вспоминать, как катал его на самодельных качелях отец.
То был летний погожий день, полный игр и приключений. У отца отпуск. Прямо с утра Олежку ждали карусели и сахарная вата, ледяная кока-кола и открытое окошко в машине, куда отец разрешал высовывать ладошку, а потом, под вечер, после дневного сна, были те самые «счастливые" качели, сделанные отцом из шины, на верёвке, перекинутой через толстый кленовый сук.
Олежка помнил, что до слёз ухохатывался от восторга и отец тоже смеялся, при этом постоянно щурился от солнца. Олежке тогда казалось, что из уголков отцовских глаз будто бы тонкими линиями-искорками выстреливали смешинки.
… Мальчишка согрелся, и сон кошачьей поступью, незаметно подкрался к нему. И то, что снилось ему, смешалось: то ли взаправду слышалось, что кто-то в хате всё жадно, будто давясь, шамкал и почти что по-пёсьи тявкал.
Олежка проснулся от тяжести на груди. Помычал недовольно и открыл глаза. Узкой полосой из окошка на пол пробивалось солнце. На его груди свернулась клубком кошка. Она похрапывала, чуточку подрагивая хвостом.
- Брысь, - сказал мальчишка.
Кошка не спешила уходить и только водила ушами из стороны в сторону.
- Шкура, пожалуйста, иди, - попросил он.
Но все слова были без толку. Наконец поразмыслив, Олежка подтянул одеяло к себе и таким образом, как с горки, заставил съехать к концу кровати увесистую кошку. Шкура недовольно зашипела, с укором глянула на него и легко спрыгнула с постели.
Олежка оделся и, первым делом раздвинув занавески, открыл окно, убрав ставни.
На кухне царил жуткий погром. Воняло чем-то гадким. Олежка поморщился и вышел во двор. Сходил в деревянную будку, служившую туалетом.
Хоть светило солнце, но на улице стояла октябрьская прохлада. По двору бегали куры, путались под ногами. Петух сидел на заборе и недовольно поглядывал сверху.
- Яська! - позвал мальчишка, затем крикнул: - Бабка Яська, ты где?!
На перекопанном огороде стояли лужи. Вокруг ни души, кроме нескольких ворон, кружащих в ясно-голубых, будто вымытых прошедшим дождём небесах... В желудке мальчишки заурчало. Он обыскал весь двор. Удивился только, что сарай заперт. Неужели бабка забыла, что внука нужно кормить, и ушла, даже не побурчав, как обычно, с утра? На старуху это не похоже. Что ж, видимо, придётся справляться самому. Олежка вернулся в хату, поставил чайник, нарезал заплесневевший хлеб. Вытащил спрятанную за посудой в буфете баночку с вареньем. Мяукала Шкура и тёрлась об ноги. Тоже, что ли, голодная?..
Попив чаю и таким образом заморив червячка, Олежка решил посидеть во дворе: на солнышке гораздо теплей, чем в хате. В которой к тому же воняло.
Старый мобильный телефон с потёртым корпусом мать оставила ему для крайней необходимости. Единственная загруженная в системе дивайса игрушка приелась в первые же дни в деревне. Ещё он успел взять блокнот, несколько цветных карандашей да книжку с картинками и комикс с Бэтманом, подаренный каким-то хмырём, заходившим к матери в гости и пахнувшим чем-то резким и жутко въедливым, так что запах тянулся за ним шлейфом и долго ещё оставался в квартире.
На улице скучно и тихо. Заняться совершенно нечем. Олежка погонял кур и решил выйти за калитку – позвать Шарика, беспутного лохматого пса, с которым он подружился, как-то угостив его кусочком колбасы. Шарик – так он сам назвал собаку, к которой за две недели пребывания у бабки Яськи успел привязаться.
Сегодня, как назло, сколько Олежка ни свистел, ни кричал, собака не приходила. Он походил по улице, поражаясь непривычной тишине. Только иногда резко каркали вороны. Никто не шёл к колодцу за водой. Ни бабка Аня. Ни неопрятная тётка Ставрида. Не было и толстого мужика, любителя опохмелиться с утра, жившего у продуктового магазина, до которого им с бабкой топать около получаса. «Странно всё это», - решил Олежка. Вернувшись во двор, он запер калитку. В доме снова поставил на плиту чайник.
Усилившийся ветер стал раскачивать ставни. Погода портилась.
В хате холодно, но он не знал, как затопить печку. Кошка ушла. Крышка в подпол открыта. Но там ведь, кроме картошки и самогонки, ничего нет. Вот только воняло, похоже, именно оттуда.
Может, матери позвонить? Но что он ей скажет? Жаловаться и просить его забрать – пустое дело и стыдно.
Олежка попил чай, щедро положив в чашку сахар. В холодильнике пусто, хоть шаром покати. Ни сала в морозилке. Ни кровяной колбасы. Ни яиц, ни молока. Неужели бабка Яська сошла с ума и всё сожрала сама? Она же тощая. Ест мало. Экономит на всём.
От нечего делать мальчишка лёг на кровать, накрылся одеялом и стал в сотый раз перечитывать комикс. Олежка гордился, что пойдёт в школу, уже умея читать. Воспитательница не раз говорила, что он очень способный мальчик. Эх, это ведь отец учил Олежку читать по книжке с большими буквами и яркими рисунками. Мальчишка отложил комикс и, тяжко вздохнув, заснул.
Он почувствовал, что кто-то рядом стоит, и едва разлепил глаза. Моргнул. Темнота.
- Баба Яся? - спросил хрипло, ещё не отойдя ото сна.
Молчание. Шорох в углу. Она затаилась в тени возле шкафа, странно согнувшись.
Кошка оказалась рядом. Мальчишка привстал, когда Шкура вдруг зашипела. Даже в этой странной темноте Олежка разглядел её шерсть дыбом. Хвост столбом. Оскаленную пасть. Никогда не видел, чтобы Шкура так себя вела.
Бабка Яська зашуршала и вдруг отступила. И стала смешно пятиться задом, пока не упёрлась в порог, ловко переступила его и хлопнула дверью
Он снова моргнул, не понимая толком: а что только что было?
Вскочил с постели, чувствуя пересохшее горло. Шкура сидела на одеяле и спокойно умывала морду.
- Фу, - брезгливо сказал Олежка, наступив босой ногой на крысиный хвост. Шкура, как ни в чём не бывало, водила лапкой по ушам.
Олежка хотел выйти на кухню, но кошка внезапно кинулась под ноги. Его затрясло, когда он понял, что она не хочет его пускать туда. Нужно бы выйти к бабке Яське. Но не мог себя заставить. Перед глазами снова и снова вставало, как она быстренько пятилась задом. Яська двигалась очень быстро – и это выглядело ненормально.
Шорох за дверью. Кошка встрепенулась. Сердце в груди Олежки забухало: тук-тук тук. Кажется, секунда – и оно выпрыгнет из груди.
На простой межкомнатной двери вместо защёлки висел обыкновенный крючок.
Он не думал. Руки сделали всё сами. Закинули крючок в металлическое ушко. Дверь тут же дёрнулась. Поначалу робко. Потом сильней. Старческий голос с противной шипящей нотой прокаркал:
- Олежка. Олеженька. Кха-кха.
От странного голоса бабки Яськи он чуть не описался. Дверь ещё раз дёрнулась, но уже легонько, как будто бабка передумала вламываться.
Мальчишка стоял возле двери, наблюдая, как за окном наступает ночь. Стало легче. Он сел на кровать и расплакался. Затем подошёл к окну. Во дворе пусто. Едва что-либо видно. Вздохнул и, отшатнувшись, чуть не упал с испугу. По стеклу заскреблись пальцы. Очень длинные, гибкие пальцы со сморщенной кожей, с корявыми ногтями.
Он закричал и быстро захлопнул ставни. Руки тряслись. Из носа текло. Кошка ощетинилась, путаясь под ногами. Но её присутствие странно приободряло. В горле мальчишки застрял хрип. За окном послышалось шепелявое пение.
- Тише мыши, кот на крыше...
И тут же резко замолкло. Олежка услышал беспокойное кудахтанье. Он закрыл уши руками. Кошка, точно успокаивая, уселась возле ног. Олежка погладил её по голове. Затем побежал к столику с деревяшкой вместо ножки. Схватил телефон и набрал маме. После долгих гудков он заплакал и всхлипнул, когда безразличный голос объявил, что абонент находится вне доступа сети.
- Мама, мамочка…
Олежка сжал кулачки, решив больше не плакать. Может быть, мамочка просто очень занята… Он почти задремал с телефоном в руке, когда в дверь снова заколотили. Кряхтящие, булькающие смешки чередовались со шлепками в дверь, которая сотрясалась от ударов.
- Нет. Нет. Нет.
Он закрывал уши руками. Кошка шипела. «Это мне снится. Это кошмар», - пытался внушить себе мальчик, но сам не верил, дрожа от страха и холода.
Снова схватил мобильный. Зарядка заканчивалась. Всего две полосы. Жаль, кроме номера матери в памяти телефона ничего нет. Да и душившие паника и страх не давали вспомнить ни одного номера службы экстренной помощи.
То ли сто один. То ли сто два. Но он не был уверен на сто процентов. «А вдруг наберу неправильно? - вёл мысленный диалог Олежка. – И что будет тогда? А если батарея разрядится, и мама потом не сможет дозвониться?»
Руки онемели. Дверь прекратила трястись после душераздирающего визга петуха. Стало болезненно тихо - и снова заморосил, тараторя по крыше, дождь.
Олежка вздохнул и сел в угол, приласкав гордую кошку, стянул с кровати одеяло и просто стал ждать, когда телефон позвонит.
… За окном рассвело... Всё тело окоченело. Кошка принюхивалась, но больше не дыбилась у двери. Мочевой пузырь Олежки грозил разорваться на части.
Он, поджав губы, повозился у столика и вытащил деревяшку, не прикреплённую к столешнице. Таким образом, вооружившись, резко вытащил крючок из петли и с криком выскочил из комнаты... Тишина. Входная дверь нараспашку. Премерзкий запах усилился. Холодильник перевернут. На полу лужи воды. Бурая жижа. Комья грязи. Подвал открыт.
Они вместе с кошкой вышли на улицу. Дождь смывал кровь и перья в канавку с плиточной дорожки, что вела до калитки. Дверь сарая раскрыта настежь. Кошка прыгнула на забор, а с него – на крышу.
Олежка хотел было сходить в туалет, но заметил: на огороде мелькнула размытая бугристая тень. Моргнув, посмотрел снова и ничего не увидел. Но пописал, зайдя в палисадник. Затем прямиком направился к калитке, надеясь, что найдёт соседей, всё им расскажет, и они помогут ему.
Дома в посёлке Рыковка, где жили одни старики, стояли далеко друг от друга, и при каждом ко двору прилегали большие участки, хоть и не такие большие, как огород у бабы Яськи, за что её за глаза называли зажравшейся паненкой.
Олежка бежал во весь дух, а с потемневших небес накрапывал дождь. Дорога впереди была размыта - и несколько раз он поскальзывался, едва не падая в лужи.
Первый дом с занавешенными окнами выглядел нежилым. Здесь жил придурковатый Стась, который любил чудить, не стриг длинные, до пояса, как у бабы, седые волосы и ходил босиком даже зимой.
На стук в калитку и крики никто не отзывался. Верная, чёрная собака Стася, тоже куда-то подевалась. В любое другое время, стоило только пройти возле забора, как она злобно лаяла и, будто припадочная, кидалась даже на почтальона.
Едва отдышавшись, Олежка побежал дальше, успев заметить, как шевельнулась штора в окошке.
Попахивающая мхом бурда оказалась на удивление сытной. В теле ныли все кости, он мечтал о ванне, о ласковых, нежных руках покойной жены. Не заметил, как заснул.
Во сне Седрик топил горе в вине и нарочно ввязывался в любые драки, желая умереть. Но смерть, словно издеваясь, не приходила. Пока однажды он не забрёл в пьяном забытьи в чащу леса, где, усевшись на край обрыва, услышал за спиной шаги и голос жреца Йора, предложившего помощь. Терять было нечего, поэтому Седрик, не раздумывая, согласился.
Сражение началось на рассвете. Темнота вокруг будто истекала кровью. Седрика вели вниз узкими коридорами, а в нишах, в клетушках-камерах отбывали заключение истерзанные пытками существа с отчаянными взглядами, ожидающие своего конца.
Он вздрогнул и вдруг вспомнил, как Йор предупредил, что шансы выбраться из портала в болоте в мёртвые земли невелики. Как плыл, едва не задохнувшись, практически на ощупь, в чёрном, маслянистом туннеле, казавшемся бесконечным под болотом, думая о несправедливости жизни и о мести. Вспоминая счастливый смех жены, и детей, и брата – лучшего скрипача в их маленькой деревушке. Наверное, только отчаяние и память об утерянном счастье помогли доплыть.
… Вот снова полные трибуны. Крики, гвалт, в котором слов не разобрать. На этот раз вывели смердящих существ с осклизлой, почерневшей от разложения кожей, безгубых, с жёлтыми пеньками зубов и глазами, в которых зиял пустотой голод. Тут-то и вспомнилось предостережение, нацарапанное на стене.
Их было много, сразу взяли в кольцо и всё норовили оттяпать зубами кусок его плоти. На помощь пришла вся сноровка, всё умение заранее предугадывать ход противника. Как раньше, на тренировках в военной академии, куда Седрик пошёл ещё совсем ребёнком.
Мечом он подрезал сухожилия, а они всё ползли да щёлкали зубами, и из пастей пузырился желтушный гной.
Седрик был юрким ужом, тихонько крадущейся мышью. Он проворно обходил их, реагирующих на громогласно ревущие трибуны.
Наконец огромная куча гнилых ошмётков устлала собой арену, и кто-то с трибуны бросил Седрику факел. Они извивались в огне червяками, тоненько посвистывая, но пламя было беспощадно.
Сразу накатила усталость, которую во время боя отметал в сторону кипевший в крови адреналин. Седрика завалили монетами, и даже молчаливый король оскалился в жуткой гримасе, встал и захлопал ему. Только вот почему от его хлопков по позвоночнику воина прокатился ржавый напильник предостережения?..
Седрик собрал монеты, завернув в грязную рубашку. На этот раз его сопровождал один из королевских монахов.
Новые покои оказались в разы роскошней. Неразговорчивые женщины в серой одежде принесли лохань и наполнили её горячей водой. Отмокать в воде оказалось лучшим лекарством. Расслабившись, он задремал.
… Он дрался до крови, до смерти, беспощадно показывая, на что способен, чтобы выжить самому и спасти попавший в засаду отряд. Когда-то в юности, на тренировках, бой для Седрика был искусством, теперь превратился в грязь, в возможность выживать всему отряду. Всё казалось бесполезным против огромной армии существ из мёртвых земель, которых мечом можно было остановить, лишь изрубив на куски, а лучше всего сжечь. Что он и делал, забыв про раны, боль и усталость.
Когда, вопреки всем усилиям, практически все в отряде были растерзаны, обезумевшего от кровавой резни Седрика к жизни вела лишь надежда вернуться домой, к семье.
Резко открыл глаза. Чувство, что не один, – и рука рефлекторно тянется за мечом. Из маленького оконца сочится разбавленный тенями тусклый жёлтый свет. Монах притаился в углу. Слова из его рта подобны шипению змеи, глаза – чёрные омуты мрака. Но Седрик смотрит: после всего пережитого не страшно. Монах ухмыляется, воин ухмыляется в ответ. Если понадобится, то рука не дрогнет, он убьет и монаха. Монах движется быстро, плавно, с кошачьей грацией. Но меч уже в руке Седрика, движение - и прижат к горлу нападающего.
- Не с-стоит… - шипит монах и предлагает за деньги приобрести еду, оружие, шлюх.
- Сколько? - спрашивает Седрик, опуская меч и выбираясь из ванны, вытираясь жёстким полотенцем. Монах называет цену за всё, включая сапоги. Монеты ещё останутся. Зачем же представление?
И вдруг перед уходом монах поворачивается. Впервые Седрик видит в его глазах что-то похожее на страх. Монах озирается, прислушивается к чему-то незримому, затем торопливо шипит, слова сливаются - и всё равно смысл достигает сознания Седрика. Монах торгуется, предлагая ему отступить – со всем необходимым сбежать в тёмные чертоги, где проходит граница владений короля, и там жить.
- Зачем? - спрашивает поражённый воин. Монах сокрушенно качает головой, в глазах потухает искорка надежды на обговоренный исход.
- Волей тёмного жреца наша жизнь связана с королём. Он слабый и гнилой внутри. Разлагается, пока жрёт, спит, трахается... Но пока ещё покорный нашей общей воле. Нет больше сил постоянно кормить, питать его собой – и тем сдерживать кровавую, безумную войну, творимую королевским указом, - изъясняется монах и запинается, теряя дар речи. Его колотит. Серость в лице монаха растекается белизной.
- Ты ещё можешь всё бросить, сбежать и сохранить жизнь. Подумай!
Червячок сомнения шевелится в груди Седрика.
Монах ушёл. Седрик так ничего и не понял, и не у кого было спросить. То, что рассказал монах, звучало как бред сивой кобылы, но оттого, как он сказал, возникали сомнения. А сомнения, вурдалак их пожри, они же, как юркие червяки, шевелились где-то в затылке, тем самым не на шутку волнуя: а что если сказанное – правда?
Вскоре пришли слуги с подносами, полными еды. Во втором кувшине оказалось вино. Оставшись в одиночестве, с набитым желудком, Седрик покинул свои покои и направился к канализации, через которую лежал путь к деревне.
С собой он взял меч, вспомнив, как можно связаться с Йором.
Беспощадные сумерки застили небеса, грозя приходом ночи.
За стенами замка, на берегу озера, озябший и промокший, Седрик порезал мечом ладонь и наблюдал, как поглощает кровь металл.
- Йор, Йор! Слуга кровавого бога, приди ко мне! - громко воскликнул мужчина.
Жрец красной птицей спикировал вниз.
- Зачем звал?
Седрик выложил все, не скрывая, и наблюдал, как Йор расхаживает взад и вперёд, размышляя.
- Увы, живой, неведомо мне, для чего монахам подкупать тебя. Но не унывай, есть кое-что, что тебя порадует.
Он сказал, что меч поможет Седрику в решающей битве, только нужно окропить его по всей длине своей кровью. Оказалось, что кровавый бог снизошёл Йору во сне и сказал, что в захоронении ведьмы-королевы спрятан ключ от библиотеки, в которой, возможно, есть ответы, как Седрику покинуть мёртвые земли.
- Но не обольщайся, живой, ибо ты ещё не победил, - сказал жрец, наблюдая на лице воина скупую улыбку.
На оставшиеся деньги, по совету Йора, Седрик купил в деревне требухи, кишок, и крови, да мертвечины, и, пока жрец отвлекал подношением нечисть, живущую в озёрных водах, воин вплавь отправился обратно.
Перед битвой тот самый монах пришёл за ним и, пока Седрик одевался, спросил, что он решил. Воин покачал головой и ответил, что будет сражаться за корону.
- Глупец, лучше молись о смерти, - по-змеиному прошипел монах и больше не разговаривал.
Король явился во всём чёрном, как и монахи, сидящие подле него. Все ряды на трибунах были забиты под завязку.
Король кивнул, и монах возвестил, что сегодня схватка будет рукопашной. Меч, нож, верёвку в мешке, кольчугу – всё пришлось отдать в загребущие руки слуг.
Седрик размялся, несколько раз до щелчка покрутил шеей. Все замерли, расступаясь в среднем ряду, выпуская маленького жирненького человечка с массивными руками и барабаном. «Бум-бум-бум!» - ударили палочки в барабан. Решётка в левом углу арены раскрылась, показались мускулистые ноги и туловище. Седрик задрал голову вверх, и сердце на миг прекратило биться. У крепкого, как гора, великана оказалось три глаза и рот, полный длинных зубов. Изо рта стекала слюна. Он сжал кулаки и хлопнул ими перед собой, издавая рык.
К великану было не подобраться, и все удары, что Седрик ему наносил, не причиняли громадному противнику вреда, а только заставляли его рычать сильнее. Воин чувствовал себя муравьём, которого грозили вот-вот растоптать. Даже всего лишь тычок чудовища выбивал из его груди дыханье. Теперь уже великан гонял Седрика по песку, ехидно скалясь, зная, что воин скоро смертельно устанет, и тогда…
В голове никаких мыслей, всё тело устало, одеревенело. Только тело на инстинктах не хотело сдаваться, не хотело, чтобы Седрик упал и был сожран на глазах у ревущей, поддерживающей великана толпы.
Ему могло помочь разве что чудо и, может быть, хитрость. Но стоило закрыть глаза, как Седрик видел синие глаза жены. Она нежно шептала, и боль почти уходила.
На этот раз великан чуть его не расплющил и выдрал целый кусок кожи с головы. Вдох, выдох. И снова Седрик побежали по кругу. Великану сыпались горсти монет, его гортанное имя резало слух, а торжествующий рёв существ на трибунах нагонял на воина оцепенение.
Наверное, всё же смилостивившись, небеса предоставили Седрику шанс, за который он ухватился.
Предельный разгон, крик до хрипоты, и, пока великан разворачивался понять, в чём, собственно, дело, Седрик оттолкнулся от каменного бордюра и взлетел исполину на спину, вцепился, как в верёвку, в длинную рыжую гриву и пополз к голове. Из-за горы перекаченных мышц великан утратил гибкость, ему никак не удавалось схватить воина.
Седрик полз изо всех сил, а великан крутился бешеным угрём, бился спиной о стену, ревел, вопил, пока, наконец, не упал спиной, собираясь размазать в песке противника.
Седрик зачерпнул горсть песка – и, прицелившись, сыпанул великану в глаза, а затем, перескочив к нему на плечи, подобрался к шее и стал остервенело вгрызаться в кожу, помогая себе руками.
Кровь великана была горькой, а плоть жилистой, но воин не сдавался. Короткие негибкие пальцы чудовища почти сомкнулись, почти оторвали его от себя, но Седрик упрямо спрятался в волосы. И новая тактика сработала. Кусая со всех сторон, Седрик прогрыз нехилую рану с двух сторон шеи, пока чудовище не заверещало, забив руками и ногами, как дитя, а кровь всё больше хлестала из его раны, с каждой каплей отнимая силы.
Седрик хохотал, как безумный, когда поверженный великан упал на песок, и вдруг вырубился сам.
Он проснулся голым в постели, перевязанный и воняющий снадобьями. На полу, на металлическом подносе, навалена еда. Меч виднелся возле спинки кровати, там же мешок. Седрик вздохнул. Было чувство, что в теле не осталось костей. Но аппетит разгорелся. Стоило поесть – и сразу же полегчало.
К вечеру он почти выздоровел, а многие раны под повязками зажили. Седой, как лунь, вестник постучал и сказал, что через два часа битва.
Седрик вымылся в лохани, нежась в воде и думая о семье. Надеясь, что все его родные обрели покой на небесах.
Он не забыл щедро окропить меч кровью, наблюдая, как с каждой каплей, впитываемой металлом, в голове раздаётся гулкий звук. Лезвие меча стало горячим - и Седрик приложил острие к ране на ладони, наблюдая, как запекается кровь. Почему-то это было правильным – чувствовать радость от боли. Он расхохотался, когда монахи пришли за ним. Кровь ликовала в предвкушении боя.
На трибунах столпотворение. Крики:
- Родерик, Родерик, Родерик! - чередовались с воплями.
Король на арене был полностью в белом, как жених. Он вскинул руки вверх, купаясь в приветствиях, ловя восторги и лесть своих подданных.
Родерик, несмотря на лёгкую грузность, сохранил плавность движений, и на песке он скользил, орудуя мечом, как жонглёр шариками - виртуозно. Все выпады Седрика были отражены - и вскоре меч просто выбили из его рук. Падая на песок, меч пел в его ушах что-то про живую кровь.
Толпа всё сильнее, всё чаще скандировала имя короля. А Седрик вдруг осознал, что король просто играет с ним. Как кошка с мышкой-полёвкой, утомляя её перед отправлением в пасть.
Он с разворота ударил короля в челюсть ногой. Звенел шлем, ныла ступня, а Родерик даже не покачнулся. Еще несколько верных приёмов: ребром ладони в шею, подножка – всё без толку. Король захохотал, громко, надрывно, как каркают вороны, пролетая в темноте над погостом.
- Освежую тебя, как свинью, выпущу требуху, а сердце зажарю и съем, ибо ты действительно был воином! - рыкнул король и занёс меч.
Отчаяние плеснулось в крови адреналином, резко проясняя мысли. Седрик достал верёвку, закрутил кольцом – и, перед тем как острие меча отсекло ему ухо, бросил петлю на массивную, не полностью защищённую шею короля, упал и потянул. Король взвыл, как воет от соли вся живущая здесь нечисть. Его серая кожа задымилась. Седрик тянул верёвку до надрыва, чувствуя, как лопается на ладонях кожа. Король бился исступленно, на последнем издыхании, словно попавшая в сеть рыба, и хрипел, надсадно хрипел, пока не затих. Лицо его почернело, ослизлось, и изо рта вывалился язык. Наконец Седрик отпустил, крякнул, вздыхая, - и завопил:
- И это все, на что ты способен, сучий потрох!
Король осел, растекаясь по песку чёрным дымом. Истлела, вспыхнув, верёвка. Зал затих. Седрик поднял меч. В ушах шёпот: «Живая кровь – яд». Чернота обвилась вокруг воина, сжимая его тугим коконом, стискивая, ломая кости и рёбра, – и безумный хохот со всех сторон обдавал смрадом. Руки Седрика занемели. Не было сил занести удар. Тысячи королевских лиц мельтешили вокруг роем призрачных мотыльков. Он понял, что проиграл. Седрик кашлянул, чувствуя во рту кровь.
Меч пылал красным огнём, насквозь прорезая тьму, – и вдруг он увидел в этой тьме королевскую фигуру. «Отомсти за нас всех, родной. Ты сможешь, ты должен!» - нежный голос жены придал сил. В висках Седрика бился пульс, в глазах мельтешили чёрные точки, а в лёгких кузнецы без остановки раздували жаркие меха.
Раз, два. Он рассчитал удар и пробил мечом горло короля насквозь по багровой линии от верёвки. Тьма отступила. Лёгкие наполнились воздухом. Родерик закачался и тяжко рухнул на песок. Меч выпал из раны. Плоть стремительно затягивалась. «Живая кровь - это яд». Понимание озарило. Мечом Седрик разрезал своё запястье. И алая, его живая кровь закапала в рану на шее противника, кислотой закипела, проникая внутрь королевского тела. Родерик завыл, забился в конвульсиях. По коже стремительно растекалась красная сетка сосудов - и вдруг его тело взорвалось, рассыпавшись на куски. На песке остались лежать обруч да браслеты.
Молчаливый зал взорвался гулом, стоном и криками. И не разобрать, чего в шуме было больше – торжества или сожаления. А может, зрителям было всё равно, кто будет править.
Силы оставили, и Седрик ошалело упал на колени. С трибун один за другим спустились монахи. Обработали целебным порошком раны, дали испить золотой жидкости с медово-пряным вкусом, от которой внутри мужчины разлился огонь – и боль в одночасье ушла. С песка подняли королевский обруч и массивные, с замысловатой резьбой браслеты.
- Коронация! Коронация! - скандировала толпа, хлопая и топая.
Ему помогли встать и повели наверх, по золотой лестнице к трону. С каждой пройденной ступенькой тело Седрика наполняла кипящая лавой радость. О да! Он всё же победил! Трон, несмотря на массивность, оказался удобен. Седрик поёрзал. Монахи бережно возложили на его голову обруч. На кистях мягко сомкнулись браслеты. Рассматривая понурые лица монахов, Седрик подумал: с чего бы это они такие унылые, точно вместо празднования его победы им велели взойти на эшафот?
Наконец толпа затихла. Монах со скорбным взглядом протягивал ему скипетр с рубиновым камнем внутри. Смутное чувство тревоги булавкой льда кольнуло меж лопатками. Камень сверкнул, точно так же, как на его мече. Что-то было не так. Пальцы Седрика сомкнулись на скипетре и вдруг онемели. В толпе он увидел жреца Йора с каким-то диким животным торжеством на лице. Судорога прошла по всему телу воина. Кольнуло в груди, в висках сдавило. Стало невыносимо больно, но отрезвляющая мысль сверкнула вдруг пониманием: а Йор тут неспроста!
Седрик зарычал. Непослушное тело не поддавалось. Скипетр пылал багряным, как и браслеты, и обруч на голове. Холодный пот пропитал одежду насквозь. Заскрипели, крошась во рту, зубы.
Йор растолкал безвольных монахов, раболепно упавших на пол. Зал стих. В голове воина будто сверлили дыру, и нечто чужое и довольное заполняло тело, вытесняя его, Седрика, прочь. Родерик вливался под кожу, точно примерял новый наряд. Резкий хохот Йора и его шёпот: «Попался» заставили Седрика завыть. Но непослушные губы смогли выдавить лишь жалкий стон. Внутри свербело, оседая на языке оскомой: гнида, предатель, лжец.
Седрик вдруг понял, что поднимается всё выше и выше к тёмному потолку. Его тело послушной марионеткой зашевелилось на троне и встало.
Щелкнули пальцы жреца, хватая его сущность, - и поднесли ко рту. Йор дунул - и Седрика водоворотом затянуло в темноту.
Он барахтался и бессвязно вопил, то погружаясь, то снова всплывая наверх, в жиже гнойно-зелёных соплей. Не зря монахи пытались отговорить его. Уж лучше бы Седрик просто сдох, чем сейчас тонуть в этом месиве, в невыносимом отчаянии, терзаясь рядом с другими. Теми, кто до него так же попался на удочку ловчего Йора и добровольно преподнёс на блюдечке своё тело королю. Легенда о королеве-ведьме умалчивала о том, как Родерику удалось обойти проклятье. А ценой бессмертия была смерть. Затем с помощью трёх королевских атрибутов силы следовало перерождение. Но, снашиваясь, новое тело короля охватывало гнилостное разложение.
В этом месиве гулким эхом шептали измученные остатки жизненных эманаций всех живых, которых на войне сожрали твари из мёртвых земель, тем самым тоже поддерживая существование короля Родерика.
Томился здесь и младший брат Седрика – Гай, и жена с детьми, и отец. Бессвязно в безумной агонии исходили криком все погибшие в войне и сожранные воины, сливаясь в общем хоре страданий.
Бесконечный ад не внимал молитвам, простираясь внутри королевских атрибутов силы.
Местечко называлось «Вороний лог». А спать разместили в одной из комнат, обещая с утра провести в столицу.
Они пришли за ним под самое утро. Бесполые существа – какой-то жутковатый толстяк да хозяин собственной персоной. Его нож не раз окрасился чёрной слизью нутра обоих существ.
От бабьи визжащего толстяка Седрик отбился подушкой и выскочил в окно, сгруппировавшись, приземлился, чтобы – эх, сразу попасть в ловушку. Целый отряд бесполых существ плотным кольцом оккупировал забегаловку.
- Будешь сопротивляться – сразу сдохнешь, - ухмыльнулась рыжая Матильда, и по глазам он увидел, что она не шутит.
- Сожрём его – и все дела. Закатим пирушку! - огласил ночь кровожадным криком толстяк.
- Суку продадим, втридорога, - холодно заявил хозяин, недобро улыбаясь.
Нож забрали сразу, как и пожитки.
Седрик проснулся, едва не прикусив язык: телега подпрыгнула на колдобине. Связанный, с головной болью – и со сводящей с ума жаждой. Телегу тащили бесполые существа, погоняемые хозяином. Ловко играла с его ножом рыжая Матильда – и, ощутив на себе взгляд пленника, жутенько ухмыльнулась.
- Наш вкусненький поросёночек проснулся, - чмокнула губами и вдруг получила подзатыльник от хозяина, прошипевшего:
- Заткнись.
Его с головой накрыли вонючим одеялом, в котором копошились блохи. Ехали долго, без остановок. Дремотное забытьё приносило кошмары, но притупляло жажду.
… Гай был младшим братом Седрика. Светловолосый и миловидный, лицом и тонкокостностью походил на покойную мать. Какой с него воин? Поэтому, когда Седрика призвали защищать страну, то Гая оставили дома оберегать жену и детей брата да немощного отца. Кто-то из недругов передал ложное сообщение, что Седрик ранен и нуждается в помощи. Легковерный Гай уехал, не раздумывая, и погиб, оказавшись в ловушке.
Вернувшись, Седрик обнаружил вместо дома пепелище да растерзанные трупы любимой жены, детей и отца. Горе едва не свело с ума. Только месть придавала смысл жизни. А кто виноват во всём, как не лицемерный и трусливый король мёртвых земель Родерик со своими головорезами?
… К утру приехали в город. Караул в воротах, похоже, был свой, прикормленный: проехали без осмотра.
Гомон голосов сливался в невнятный гул. Рыжая сжалилась, или ей велели, но влила ему в рот воды из бутыли. Ее окликнули, поэтому Матильда плохо поправила одеяло, и пленник смог разглядеть, куда его привезли.
Размытая дождями дорога. Высокие глинобитные домики с черепичной крышей слишком плотно ютятся. Узкие проулки. Странные фигуры в капюшонах и лохмотьях. Запах гнили, тухлой рыбы, нечистот плотной волной забивает ноздри… Ветер снова набросил на глаза край одеяла. Внутри зрело странное чувство, что он уже близко.
Седрика продали высоченному, хорошо одетому мужчине с тонкими, как иголка, губами. Он ухмыльнулся, показав гнилые зубы, - и велел, обдавая смрадом, вести купленного в барак.
В бараке от вони не продохнуть. Связанные пленники ходили под себя или испражнялись в углах, но все выглядели крепышами. Мускулистые, рослые, хоть и не люди. Они обнюхивали Седрика, точно охочие до сучки псы, облизывая губы чёрными языками, что-то причмокивали. Особо настойчивых он крепко саданул лбом, слегка остудив их пыл.
В углу копошился плешивый старик с крепко зашитыми глазами, юркий, как паук. Он и потеснился, давая ему возможность прислониться спиной к стене. Седрик втягивал живот, шевелил кистями, расслаблял и напрягал тело в надежде ослабить веревки.
В щели под дверью всплыл багрянец утра, послышались шаги. Он вспомнил, как попал в мёртвые земли. Вспомнил, что ему помогли.
Силы угасали, спать хотелось невыносимо, как и пить. Седрика вытащили из барака первым, костлявые пальцы ощупали жилистые предплечья, прошлись по рельефным мышцам на животе. Хриплый голос тощего нечто в мантии с капюшоном, закрывающим лицо, прокаркал охраннику:
- Живо дай ему напиться! Мессир Барульф ждать не любит.
Он выпил тухлой воды из плошки, чувствуя прилив сил. Еще раз напрягся и незаметно освободил кисти. Когда барак остался позади, в несколько ударов расправился с тощим. Затем освободил ноги. Вокруг глухие стены и узкий проулок… Хлопок. Второй. Гнусавое: «Браво».
Седрик озирался, недоумевая, откуда доносится голос. Прижался к стене и отскочил, услышав хохоток, ледком щекочущий нервы. Незнакомец спикировал с небес, мягко приземлился. Высокий, в кроваво-красной рясе, на голове капюшон. Всем видом неуловимо знакомый.
- Чего ты хочешь? – крикнул Седрик, готовясь сражаться и оценивая противника.
- Хм, живой среди мёртвых. Боец, который желает выжить любой ценой и отомстить, не так ли? Я, как и обещал, предоставлю тебе эту возможность, - незаметно приблизившись, сказал пришлый.
- Йор? – С вопросом по телу Седрика разлилось облегчение.
- А кто же ещё!
Незнакомец сбросил капюшон, выставив овальное лицо с длинным носом, белые, как пух одуванчика, волосы и глаза, в черноте которых будто плескалась кровь.
- Да, я жрец Йор. Посланник заточённого кровавого бога. Знай – я никогда не вмешиваюсь, но могу направлять.
Эти помпезные слова Седрик уже слышал, поэтому пропустил мимо ушей.
- Почему так долго Йор, вурдалаки тебя сожри?!
- Ты смог добраться сюда живым. Остальное – моя забота.
Темнота давала Йору силы, а при свете он спал, как вампир. По воздуху Йор переместил Седрика в свою обитель – пещеру внутри самой вершины горы, края которой утыкали гнёздами ядовитые змеептицы. Птиц можно было есть, только предварительно сцеживая из зубов яд. Зажарив на костре парочку, они подкрепились, но, перед тем как заснуть, жрец сказал, что все ответы, как победить короля Родерика, Седрик должен искать сам.
В пещере нашлись кольчуга, меч с красным камнем в навершии, сломанные ножи и ржавый арбалет. В сундуке у стены – одежда. Вяленых змеептиц подвесили на крюках.
Жрец поведал о проклятом пути королей. Претенденты на престол были и до Седрика, но кого-то из живых просто сожрали ещё до боя, другие погибли в поединках, кто-то просто исчезал бесследно. А бессмертный король всё правил и правил - и вот уже долгое время никто не заявлял права на престол.
- Так что у тебя есть шанс получить корону и закончить войну. Пусть тебя утешит, что это не самый худший вариант, ибо вернуться домой ты никогда не сможешь. Портал в болоте, в королевстве людей, открывается лишь в одну сторону, как и другие, созданные с помощью магии. Поэтому все ваши отряды никогда не возвращались обратно. А этот мир принадлежит мёртвым и проклятым. Он как пузырь, набитый гнилью, вот только выхода здесь нет ни для кого. Смерть – это полное забвение, путь в небытие, но многим и этого не дано – даже смерти, лишь перерождение в голодный, призрачный ветер.
Кровавая клятва была произнесена на камне, изрезанном письменами и проступающим изнутри яростным божественным ликом. Разрезав ладонь - и щедро окропив камень кровью, Седрик поклялся безжалостно убивать, даруя все смерти спящему богу. Кровь с шипеньем впиталась в камень - и Йор сказал:
- Если не умрёшь от яда в мече, значит, бог принял твою клятву. Тогда всё оружие и кольчуга твои, а я доставлю тебя в замок.
Вздохнув, Седрик направился к мечу и взял его в руки. По ладони разлилось тепло, и камень в навершии стал болезненно ярким. Затем всё исчезло. Он выдохнул.
- Можешь выбрать одежду из сундука. Думаю, что-то, да подойдёт, всё остальное приобретём по пути, – сказал жрец и стал собирать вещи.
Путь в столицу короля Родерика Бессмертного оказался трудным и долгим.
Ночами они летели, а когда малиновый багрянец утра сменялся жёлтым дневным светом, жрец закапывался в землю для сна, давая перед тем Седрику указания.
Они посетили жильё многорукого страшилища и делом заработали драгоценную соль. Затем принесли лакомке пауку мёд, выкурив из улья злющих шершней. Паук выдавил из своего жирного брюшка толстую нить и лапками спрял крепкую веревку. Наконец трехголовая шептуха, живущая в тёмном лесу, в норе, уходящей вглубь сросшихся деревьев, обещала заговорить верёвку взамен на припасы. И им пришлось выкапывать коренья, давить из них пахучий, отпугивающий призрачных охранников сок да наведаться на погост в поисках свежего мяса как раненых животных, ползущих сюда умирать, так и существ, не желающих после смерти пополнить чьи-то желудки. Шептуха заговорила верёвку, вот только просаливать пришлось Седрику самому, с помощью языка, слюны и зубов.
Замок короля в свете двух лун был виден издалека. Огромный исполин из тёмного камня буквально впитывал дневной свет. Блестящие ворота чернели надо рвом, устланным черепами, с откидным мостом. Во рву копошились человекоподобные существа, рвущие и пожирающие друг друга. Раз за разом взбирающиеся наверх по черепам, они по-обезьяньи карабкались по стенам, где, оскальзываясь, падали, разбиваясь во рву.
Йор объяснил, что те, кто одолеет стены замка, пополнят королевскую армию.
Тяжёлый сундук с оружием оттягивал руки. Йор сказал, что нужно крикнуть перед мостом. Также наказал не оборачиваться и не вступать в бой, как бы существа ни донимали. Багряный свет растопил тёмные небеса, и жрец попрощался, сказав, что только за пределами замка он может позвать его.
Существа стягивались цепочкой за спиной мужчины, щёлкали и улюлюкали, свистели да бросались трухлявыми черепами. Седрик, не оборачиваясь, шёл дальше, пока не упёрся в конец моста, где и крикнул:
- Родерик Бессмертный, по праву живой крови я бросаю тебе вызов!
Трижды зов озвучил, аж в горле запершило. Существа притихли за спиной. Зловеще лязгнули, открываясь, ворота - и массивные, запечатанные в броню стражники загремели цепью, спуская через ров мост.
Ворота сомкнулись за ним - и дневной свет померк. За стенами замка царили серые сумерки. Пахло пылью и тленом, а от гробовой тишины закладывало пустым гулом уши. В тёмных одеждах, не поднимая головы, сновали вокруг слуги. На парапетах сидели горгульи, безмолвные и неподвижные, только в глазах тлела сонная искра жизни.
Седрик шёл вперёд, во дворец.
Исполинские ступени, гладкие зеркала чёрной нефти. Высокие, необхватные колонны, точно созданные подпирать собой небеса.
Внутри, в огромном зале, в плитках рисовался дивный золотой цветок, острыми лепестками образуя смыкающийся круг.
Филигранное стекло окон с ликом чудовищ едва пропускало свет, лишь заостряя взгляд на кощунственных росписях на стенах. Седрик ощущал пронизывающий насквозь болезненный холод и боль, от которой сводило зубы. Громкий и мощный бас велел приблизиться.
К каменному, грубой кладки трону вели три ряда золотых ступеней. Внизу безмолвно и согбенно стояли монахи в чёрных рясах.
Он подошёл к первой ступени и замер, ощущая пристальный, давящий взгляд. Снизу король казался толстым чёрным муравьём с очень широкими плечами. Лица практически не рассмотреть, но его ухмылка нервировала.
- Вот жалкий, смердящий клоп, посмевший бросить мне вызов! - отразилось от стен, загудело у пола, эхом добавляя скрытого смысла словам. - Давай, назови же мне своё имя, живой!
- Седрик Уильям Торнхарт! - громко и гордо произнёс он.
По очереди поднимая головы, монахи проскандировали правила. Предстояло три сражения насмерть с лучшими королевскими воинами, а потом, если выживет, всё решал бой с самим королём.
Комната, куда привели Седрика, была скудна и прохладна, в ней словно гулял незримый сквозняк, пробирающий всё нутро. Тощий матрас и ветхое одеяло совсем не грели. Кормёжка раз в день: пресное варево с ошмётками серого мяса и безвкусная вода, которой, сколько ни пей, не утолишь жажду.
Он заснул сразу, и сны его были темны и тревожны. Размытые образы. Смех. Цокот копыт коней вражеской армии. Крики. Затем пламя, в котором сгорали его жена, дети, отец. Укоряющий, грустный взгляд Гая. Для его тонких рук любой меч оказывался слишком тяжёлым.
- За что?!
Седрик с хрипом проснулся. Пульс бился в горле. Тело трепетало в испарине. В глазах набухли горькие слезы, и он крепко стиснул зубы, чтобы унять рыданье. Кулак впечатался в стену. Дверь открылась, и монах велел собираться. Из вооружения можно было взять всё.
Шли лестницами и подземельями. Глухой далёкий шум напоминал раскаты грома. Амфитеатр в песчаной яме, глубокой и круглой, а сверху ряды заполненных зрителями скамеек. Камни в стенах мерцали синевой, освещая предвкушение на лицах как тварей, так и существ, лишь отдалённо похожих на людей. Шум. Вопли. Бесшумно разошлись золотые створки на потолке. Король, в алых одеждах, с тонким обручем на поражённой гнилью голове, со скипетром и массивными браслетами на запястьях, на движущейся платформе спустился в самый центр амфитеатра, заняв большую ложу со стулом вместо трона. В грохоте криков, аплодисментов, возгласов утонули все мысли. И только жажда вспомнить и понять терзала сердце Седрика, не давая покоя.
Ворота напротив открылись, выпуская ревущую толпу существ, подобных тем, с моста. Главарь их, самый крупный, с огромной головой и пастью с чёрными зубами, хвастливо храбрился – почище петуха. Бил себя в грудь, заливисто лая… Седрик обнаружил, что существа подслеповаты. Оставалось не дать им смять себя вблизи.
Только уменьем выживать в бою да мастерским владеньем мечом Седрик заслужил звание генерала. Так что все удары легко рассекали противника. Он изворачивался и бегал до седьмого пота, своей тактикой заводя зрителей. Те за каждый верный удар да последующий крик боли одобрительно галдели, бросая на песок монеты. А ещё существа отвлекались на запах крови сородичей, с жадностью пожирая своих мертвецов.
Спрятавшись за трупами, двигаясь по песку по-пластунски, Седрик сумел исподтишка обойти смекалистого вожака и нанести удар со спины. Единственный и верный взмах меча срезал с короткой шеи вражью башку.
- Седрик! Седрик! - мощно скандировали со скамей.
А король ухмылялся, и от той ухмылки отчего-то стало по-настоящему страшно.
… В комнатке на стене, внизу, возле самого пола, он, лёжа в раздумьях, разглядел царапины и шероховатости и, расколупав штукатурку, обнаружил слова: «Остерегайся гнилых зубов, сдохнешь». Корявые буквы ниже точно писались дрожащей рукой: «Родерик, похоже, неуязвим, неуязвим…»
Седрик спрятал послание, придвинув к стене матрас – и вовремя: принесли поесть. Тучный мужчина в балахоне сверлил взглядом, поглядывая на стопку монет на подушке. Наконец сказал, что на монеты можно многое приобрести в деревне за замком. Крякнул: мол, скажет, как туда попасть, но за монеты.
- Рассказывай, - щёлкнул пальцами Седрик и таки дал тучному горсть монет.