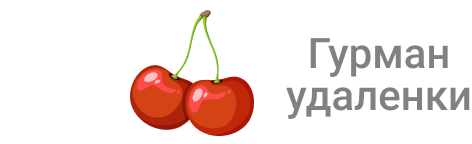Алексей и Николай познакомились, когда оба были на первом курсе: Алексей только-только переехал в Москву и поступил в государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, а Николай ―в «бауманку» или в технический университет имени Н.Э. Баумана в самом центре Москвы, как гордо говорила его мама своим соседкам по лестничной клетке.
Близился конец года, на дворе гулял душистый май 2000-го, и студентов распределяли на практику. Через пару недель несчастному «будущему великому режиссёру» Алексею Ермакову нужно было сесть на поезд до Пскова, а потом тащиться хоть пешком, хоть на собаках, хоть на ковре-самолете до деревни Замогилье, которая располагалась недалеко от другой деревни ― Лихолесье. И если первый крохотный поселок хотя бы можно было найти по путеводителям, то его чудо-юдо напоминало Атлантиду, которая открывается только избранным, судя по всему.
Собственно, в эту деревню его направил тот самый Станиславов, один из самых уважаемых и строгих преподавателей его университета. Алексей мрачно усмехался про себя, что тот наверняка выбрал это богом забытое место исключительно из-за его говорящего названия, специально для него.
Когда-то Леша на спор выбрал его своим научным руководителем, о чем уже сто раз пожалел. Станиславов выжимал из него все соки, мог позвонить среди ночи, чтобы уточнить что-то по его курсовой работе, выходил из себя, если Леша забывал какое-либо фундаментальное правило расстановки света или пауз, да и вообще любое правило, и таким образом являл собой образчик злостного тирана и садиста, флагманом чего служил его огромный орлиный нос под кустистыми бровями. С началом пары в аудитории сначала важно появлялся этот нос, а уж за ним и сам Сергей Константинович. Студенты про себя так и прозвали его «Нос Угроз». Но, несмотря на это, пожилого профессора безмерно уважали.
Сергей Константинович воспитал не одно поколение успешных режиссёров, а на его счету было не менее семи фильмов, отмеченных высшими государственными наградами, а один из них даже побывал на Каннском фестивале и принес оттуда своему создателю первое место. Но самое главное было даже не это. Сергей Константинович безошибочно отличал ложь от фальши и халтуру, даже ювелирно замаскированную, от качественной работы. Будучи закоренелым приверженцем старой школы, иногда он всё-таки готов был пойти на компромисс и принять какие-то нововведения от учеников, если им удавалось доказать ему, что они того стоят. Но таких примеров за всю историю его тридцатипятилетней работы было не больше трех.
В университете говорили, что Станиславов был знаком с самим Владимиром Проппом, российским фольклористом, получившим признание мирового уровня. Возможно, благодаря именно этому знакомству, Сергей Константинович нашел свою единственную любовь ― русский фольклор во всех его проявлениях. Алексей к Проппу и его трудам относился со всем почтением, но не мог не помянуть того добрым словом, когда его, Алексея, научный руководитель вызвал его к себе, чтобы рассказать о предстоящей задаче.
― Ну что же, Лешенька, вам предстоит большое путешествие. Я бы хотел видеть от вас небольшой фильм о культуре и быте местных жителей. Захочется уйти в документалистику ― пожалуйста. Пожелаете добавить мистики ― ваше право, но и ответственность за результат тоже ваша, не забывайте об этом. Уверен, скоро вы порадуете нас своей безусловно ценной работой, которая найдет своё место среди других заслуживающих внимания фольклористов, ― за годы работы со Станиславовым Алексей уже научился различать едва уловимую иронию в его серьезном, даже доброжелательном тоне.
― Сергей Константинович, со всем уважением, но я всё-таки режиссёр, а не фольклорист.
Станиславов заканчивал уборку на своём столе и, разложив все важные бумаги по своим папкам, снизошёл до того, чтобы посмотреть на своего студента.
― Вот мы и проверим, кто вы на самом деле. Режиссура ― это не призвание, а, прежде всего, труд и умение видеть.
Алексей нахмурился, всё ещё переваривая новость о свалившейся на него ответственности.
Станиславов поправил очки на своём большом, важном носу, закрывая от Алексея острый взгляд маленьких серых глаз, и снова углубился в чтение какого-то труда на своём столе. Это был знак того, что разговор окончен.
Однако грустные новости всё ещё были впереди. Дело в том, что начало практики было запланировано на второе июня, день, когда Алексей всегда уезжал домой на пару дней, всеми правдами и неправдами отпрашиваясь с учебы.
Десять лет назад второе июня в его маленькой семье было самым обычным днем. Алексей и его младшая сестра Злата жили без отца: он умер, когда Злате ещё не исполнился год. Их мама работала в местной библиотеке, иногда подрабатывала уборщицей, чтобы на выходных можно было купить детям какие-нибудь сладости или как-то ещё порадовать. Летом, на праздники мама пекла вкуснейшие пироги с вишней, гуляла с детьми в лесу и рассказывала им русские народные сказки про русалок и бабу Ягу. Конечно, Леша давно не верил во всю эту чушь, просто мамины сказки для него были лучшим оберегом от тоски и скуки.
Так продолжалось до 1990 года, пока в их дом ни пришла страшная весть: Злата пропала. Вся семья тогда была на даче, которая находилась около леса. Злата обожала там гулять, собирать землянику и дикую малину, но маму слушалась и старалась далеко в лес не уходить. Тем утром девочка, как обычно, убежала в лес сразу после завтрака и не вернулась.
Наверное, во всем мире нельзя было найти девочку, которой имя Злата подходило бы больше. Её светлые, крупные локоны, унаследованные от мамы, оттеняли небесно-голубые глаза, чуть светлее, чем у брата. В деревне малышку все любили за её кроткий и весёлый нрав. Злату крайне сложно было чем-то расстроить ― настолько она любила эту жизнь. И потому девочку искали все вместе, подключили волонтёров, милицию, да вообще всех, кого возможно, но безрезультатно. Ни живой, ни мертвой её так и не нашли.
На мольбы безутешной матери стражи порядка только разводили руками, мол, сделали, что смогли, примите наши соболезнования. А по деревне поползли слухи, что, должно быть, ребенка похитили какие-то бандиты или того хуже ― русалки.
Анна Александровна, мама Леши и Златы, уже всему была готова поверить, соглашалась на странные обряды местных шаманов, которые пытались задобрить лесных духов, чтобы вернуть ребенка, нанимала детектива за свой счёт, но время шло, тропа к лесу зарастала, а вместе с ней и память окружающего мира о Злате Ермаковой.
Выкопать пустую могилку для дочери у Анны духу так и не хватило, поэтому второе июня они с сыном всегда проводили вместе, готовили любимое Златино блюдо, пироги с вишней, и поминали её, как умели. Мама никогда не произносила этого вслух, но Леша понимал, что она всё ещё надеется на возвращение сестры и, наверное, всегда будет надеяться. Не зря говорят в народе: «Неизвестность хуже смерти».
Когда Злата пропала, Леше было одиннадцать лет. В этом году, второго июня, ей могло бы исполниться восемнадцать, и она, наверное, поступила бы в академию ветеринарной медицины, потому что всегда хотела лечить животных. Думать об этом было тяжело.
На город опускался теплый вечер. Сидя на кровати в своём общежитии, Алексей заканчивал последние приготовления к поездке ― утром в шесть утра ему нужно было сесть на поезд до Пскова и трястись в нём двенадцать часов.
Лето выдалось необычайно жарким, и, наверное, поэтому, как казалось Алексею, все, кто только мог, решили прокатиться с ним на одном поезде со всеми своими пожитками и домашними животными. Когда этот лютый кошмар закончился и поезд выплюнул его на неприметной станции у леса, Алексей едва не принял его за врата в Рай, но не тут-то было.
Ему предстояло ещё пол вечера добираться до деревни, вооружившись старыми картами и надеждой на помощь прохожих. К счастью, небеса сжалились над студентом и помогли ему найти Лихолесье без особых трудностей. Впрочем, назвать это место полноценной деревней было бы не совсем честно.
Поселение располагалось в низине, около реки, и состояло всего из одной улицы. Старенькие, местами покосившиеся домики, казалось, наклонялись друг к другу, перешептывались, как косматые деды на лавочке у плетени. То здесь, то там цвели пышным цветом сады крапивы и чертополоха, а чуть дальше, в гордом одиночестве, стояла, пожалуй, главная достопримечательность Лихолесья ― аутентичный резной колодец, к тому же, всё ещё исправно работающий.
Местных жителей нигде не было видно, хотя ночь ещё не наступила. И это казалось очень странным, потому что часы показывали десять вечера, а небо всё ещё переливалось закатным заревом. Зачерпнув родниковой воды, Алексей с наслаждением сделал несколько глотков, ощущая, как ледяная серебряная жидкость сбегает вниз по горлу, возвращая ему силы жить. Умывшись, молодой человек поднял с земли свой тяжелый рюкзак и сумку с аппаратурой и осмотрелся. Прямо ему навстречу брела маленькая старушка с большим коромыслом наперевес. Алексей хотел было предложить помощь, но только удивленно моргал, наблюдая, как бабушка, шустро перебирая сморщенными ладонями, поднимает вверх полное ведро и наполняет им другие два. Алексея она словно и не замечала. А тот неловко переминался с ноги на ногу, не зная, как начать разговор.
― Сколько можно клевер мять-то…― наконец, вздохнула женщина, пристраивая на коромысло свои ведра. ― К кому пожаловал, милок?
― Я…Алексей. Алексей Ермаков, приятно с вами познакомиться, ― кивнул ей молодой человек. Собеседница, несмотря на её кажущуюся строгость, выглядела вполне приветливой, даже чем-то напоминала его родную, давно почившую бабушку. ― Я приехал кино снимать.
― Кого-кого откуда снимать?
― Кино. Ну…когда картинки двигаются, и получается сказка, ― Алексей почувствовал себя настоящим дурачком. Как здесь таких называют? А, точно, юродивыми. Сейчас бабки решат, что он какой-то сумасшедший и начнут отпаивать своим настоем из мухоморов. Ему тогда отсюда точно не выбраться. Чтоб этого Николая с его шутками…
― Ах, вон оно как…слыхали мы про это. Меня, кстати, Прасковьей Ивановной зовут.
Женщина выпрямилась, вглядываясь куда-то за горизонт. Исчезающий солнечный цвет отражался в её зеленовато-голубых глазах, как в теплой речной воде.
― Ни у кого, ― вздохнул Алексей, разминая уже начинающее ныть плечо. ― Я тут пока только вас встретил.
― Иди-ка к Любе. У неё дом просторный, она тебя приютит. Это отсюда по правой стороне, через три огорода. Ну, доброй тебе ночи!
С этими словами Прасковья Ивановна с характерным «эть!» подняла на плечи коромысло и бодро зашагала по той же тропинке назад, напевая ласково-скрипучим голосом:
Алексей снова остался один. На Лихолесье опускались сумерки, становилось холоднее. Принять решение в таких условиях, разумеется, было проще. Да и куда ему идти, кроме как к непонятной тете Любе. Не стучаться же в каждый дом, и уж тем более не стоило тешить себя надеждой, что в этом богом забытом месте слышали про гостиницы.
Одно за другим в домах загорались окна. Дома, казалось, пробуждались от спячки, охраняя своих хозяев, как древние, молчаливые стражи. Вдыхая влажный, душистый воздух, Алексей отсчитал три дома и подошёл к четвертой избушке, огороженной невысоким сероватым забором. Калитка была не заперта, но заходить без приглашения считалось некультурным, поэтому Алексей постучал по калитке, вытягивая шею, чтобы лучше осмотреть двор.
Ему показалось, что залаяла собака, но конуры нигде не было видно. Спустя несколько минут за воротами послышалось неторопливое шарканье, и калитка медленно отворилась. Люба оказалась низенькой, полноватой старушкой, завернутой в большой шерстяной платок, из которого выглядывала толстая снежная коса.
― Меня зовут Алексей Ермаков, я приехал сюда на практику, из Москвы, ― в этот момент Алексей гордо выпрямил плечи. ― Мне сказали, у вас можно остановиться на несколько дней. Я заплачу, сколько скажите, и с хозяйством помогу.
― Ээ…заплатит он. У вас, у студентов, поди, денег-то нема. Проходи, ладно уж, не стой на пороге. Как звать-то тебя?
― Ах, ну да-да, ты ж мне сказал…а я Любовь Андревна.
Забавно переваливаясь то на одну сторону, то на другую старушка повела его по едва заметной тропинке к дому. Поднявшись по ступенькам на крыльцо, Алексей оказался в крохотных сенях, ведущих в большую комнату, треть которой занимала старая печь. На стенах ровными, а иногда и неровными рядами висели пучки засушенных трав. Напротив печи, под окном, на кружевной скатерти, постеленной на стол, стояла расписная ваза с букетом ромашек, а под ним можно было разглядеть корзинку с подберезовиками. Собственно, всё, что глаза Алексея успели выхватить из полумрака комнаты, включая красно-зеленые цвета узоров на вазе, освещалось благодаря свечке, тихо тлеющей рядом с цветами. Она и служила единственным источником света.
Аромат полыни и мелиссы слегка кружил голову, заставляя мечтать о теплой постели и блаженном сне, в котором забудется и трудная дорога, и неприветливые попутчики, и удушающая жара.
— Вот тебе хлебушка да молока на ночь в крынке. Постелю тебе на печи. А разбужу завтра тебя на заре, Алешенька, ― проговорила Любовь Андреевна, деловито водружая на стол глиняный кувшин и золотистый колобок на блюдце.
― Зачем на заре-то? ― радость от скорой трапезы мгновенно улетучилась. Для студента Алексея, убежденной «совы», ранний подъем был худшим наказанием, которое только можно было представить. С детства он мечтал работать по ночам, построить свою киностудию, которая будет снимать фильмы только в вечернее время суток, чтобы днем спокойно отсыпаться. А тут такое начало карьеры.
― Ты же мне по хозяйству помогать обещал. Аль не ты?
Старушка пристально посмотрела на гостя, и тому от её проницательного, глубокого, как небо зимней ночью, взгляда, стало не по себе.
― Да я, я, кто же…― наконец, обреченно ответил он, садясь за стол. Может, он так проголодался, а может и вправду Любовь Андреевна раньше поваром в правительстве работала, но такой вкусной еды молодому человеку ещё не доводилось пробовать. Сказку про колобка он в детстве, конечно, читал, но почему-то представлял его себе, как безвкусной кусок теста, ещё и на земле повалявшийся, но этот, с хрустящий корочкой, запеченный со сметаной, имел какой-то удивительный вкус чего-то теплого, доброго, давно забытого. Вот только мама его никогда колобки не готовила.
Допив молоко, Алексей убрал за собой посуду, переоделся в пижаму и полез на печку, к своему счастью, не встретив на пути ни одного таракана. Однако, потесниться ему всё же пришлось. На лежанке его встретил толстый черный кот, с длинным лоснящимся мехом и белым пятнышком на пушистом хвосте. Кот чувствовал себя хозяином положения, лежа ровно посередине одеяла, и никуда не собирался двигаться. Он внимательно наблюдал за студентом своими горящими зеленым огнем блюдцами. Не шипел и не царапался, просто следил за каждым его действием.
― Как тебя там…Барсик, ну я тоже спать хочу. Давай, кыш, отсюда! ― буркнул Алексей, пытаясь столкнуть кота с одеяла, но тот будто весил целую тонну. ― Ай, да что ты будешь делать, ладно, завтра разберемся.
Кое-как Алексей залез под одеяло, вернее, под кота и одеяло, и почти сразу же провалился в сон. Для него это выглядело, как будто он моргнул, и уже почувствовал на своем плече маленькую сильную ладошку.
― Вставай, добрый молодец. Кому говорю, вста-вай! ― парень что-то сонно бурчал, пока ушат холодной воды ни привел его в чувство.
― Блин! Бабушка, вы чего?
― Так, а чего, коли недобудешься никак тебя, ― проворчала хозяйка дома, спускаясь с лестницы на пол вместе с пустым ковшом. ― Топай давай к колодцу. Всю воду на тебя потратила, последнюю.
Ежась от налипшей к телу мокрой рубашки, Алексей спустился вниз. Промокнув челку первым попавшимся полотенцем, он влез в одолженные Любовью Андреевной дырявые калоши и, захватив с собой коромысло, отправился к колодцу. По дороге Алексей рассуждал о природе волшебной воды в нем, ибо никак по-другому объяснить силу местных бабушек у него не получалось. Такую деревянную палку даже ему, рослому, здоровому мужчине, нести было непросто, а уж им…Но издержки профессии брали свое, и понемногу Алексей отвлекался от своих мыслей, прикидывая, что и где он собирается снимать, когда Любовь Андреевна отпустит его со своей барщины.
Кроме колодца, культурологический интерес для него представляли резные ставни, забавный плотник Никодим, промышляющий в свободное время плетением лаптей, дед Ефим, чьи валенки, по его словам, славились на дворе у самого царя-батюшки («Это он про Брежнева, что ли?»), ну и, конечно, первый друг Алексея в Лихолесье, бабушка Прасковья Ивановна. У каждого из них Алексей планировал взять интервью, ну и заодно поснимать эту чудную для него жизнь.
Не то, чтобы он раньше не бывал в настоящих русских деревнях, просто вот конкретно эта несколько отличалась. На первый взгляд, она казалась обычным, день за днем уходящим в прошлое поселком, уносящим с собой богатую культуру традиций, обрядов и верований ― одним словом, маленький живой музей. Но была у Лихолесья ещё одна особенность.
Его жители не просто жили в прошлом ― они, будто, из него и пришли. Как актеры, которые снимались в фильме про какого-нибудь Ивана Грозного, да так и не смогли выйти из своих амплуа. Милые и странные. Их речь, вроде бы русская, обладала какой-то особой напевностью, как если бы они всё время разговаривали с ребенком. Совсем не как москвичи.
Сначала Алексея это всё немного смешило, даже пугало, но потом стало казаться каким-то родным. Он мог часами наблюдать, сжимая в руке черный пластиковый корпус камеры, как Никодим переплетает друг с другом полоски из лыка, попутно что-то напевая себе под нос, а когда они заканчиваются, идёт в сарай, за свежим деревом, чтобы из его сердцевины наколдовать новый материал.
А иногда он брал свой посох и вел молодого человека в лес, рассказывал ему о деревьях и грибах, о том, как распознать медвежьи следы, и отличить волчьи от лисьих, о том, где искать ягоды-спасительницы, когда заблудишься, и как правильно поговорить с лешим, дабы тот перестал кругами водить и вывел к людям. Всеми этими знаниями Никодим щедро делился со своим учеником, приправляя свою речь какими-то древними словечками вроде «аркуда», «бяху» или «наипаче».
Старец Ефим показывал ему премудрости катания шерсти. И если на первый взгляд слово «премудрости» Алексей про себя употреблял с оттенком иронии, то потом уже сам чувствовал себя глупым и необразованным, когда переспрашивал у Ефима, что значит валенки «без шишек и окошек».
― Так для того, Алеша, чтобы надеть было приятно и носились долго, да хорошо. От так. Надо быть внимательным и добросовестным ко всему, что Бог дал тебе делать. От так. Комера твоя того не увидит. Это руками да сердцем надо смотреть…от оно как.
Почему-то в его крепких, жилистых руках работа выглядела совсем иначе, чем Алексей её себе представлял. Он вообще был уверен, что предстанет перед дремучими стариками этаким чудом-полубогом со своей сложноустроенной техникой и высококлассными умениями создавать красоту на пленке, несмотря на то, что они рассматривали с любопытством крышечки от объективов или ремешки или дополнительные устройства для освещения, но этот интерес был скорее по-детски наивным и быстропроходящим. И само появление Алексея в Лихолесье больше было похоже на круги, что появляются на глади озера, если бросить в него камушек, и через некоторое время исчезают, оставляя зеркальное отражение нетронутым. Одним словом, культура их жизни шла своим чередом, постепенно, незаметно для него самого, вовлекая в себя всё глубже и Алексея Ермакова.
Он привык ужинать квашенной капустой и запеченной в печи картошкой из горшочка, запивая всё это травяным чаем с мятой. Даже подъемы на рассвете больше не представлялись ему адской мукой, и глаза Алексея постепенно привыкали различать в предрассветном тумане особую красоту пробуждающейся природы: капельки росы на траве, нежную пастель неба, разрисованную чернильными узорами ветвей деревьев. Он учился слушать стрекотание сверчков в тишине, и саму тишину, бескрайнюю и величественную, наполняющее всё существо до самых краев легкостью и миром. Даже с котом ему удалось подружиться. Он соорудил для него удобную лежанку из старых тряпок, найденных на печке, и тот каждую ночь приходил к нему, устраивался в ней темным клубком, громко мурлыкая, пока парень ни засыпал.
В одно такое утро, когда Алексей, как обычно встал ни свет, ни заря, наколол дров и натаскал воды, а также закончил кое-какие мелкие работы по хозяйству, Любовь Андреевна вдруг попросила его о неожиданной услуге.
— Лешенька, ты же уезжаешь завтра?
― Ага…буду по вам скучать.
― Ну, будешь или не будешь, ещё неизвестно, но сходи-ка ты, напоследок, в сад, да почини там старую качель. Скоро сюда детки придут, и другие гости, будет, где им поиграть да порезвиться.
По правда говоря, удивление Алексея можно понять. Назвать садом участок за домом Любови Андреевны можно было с большим трудом. Это было почти полностью заросшее высокой травой поле, без единого намека на грядку, кроме одной, картофельной, около заднего входа. Остальные овощи старушка выменивала у односельчан бартером, где как.
Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что деревья в саду всё же росли, преимущественно вишни, но выглядели они какими-то истощенными и почти сухими. Между двумя такими деревцами и нашлась качель: две палки и перекладина между ними.
Подавив тяжелый вздох, Алексей отправился назад, продираясь сквозь траву, к сараю. В нем можно было найти кое-какой, местами ржавый инвентарь, а также толстую, прочную веревку. Седалище молодой человек сделал сам, весьма кстати вспомнив уроки старика Ефима. После этого он отыскал косу, которая казалась абсолютно новой, и убрал траву так, чтобы качели спокойно проходили вперед и назад, а также освободил место для детских игр.
Он не вдавался в подробности относительно того, кто именно собирается приехать, и вообще, есть ли у Любови Андреевны родственники или друзья. Возможно, речь идет о какой-нибудь школьной экскурсии, мало ли. Алексей бы нисколько не удивился, если бы выяснилось, что у Любови Андреевны под полом скрывается музей-самиздат или сокровища французской короны.
Так или иначе, к вечеру вся работа была закончена, а Алексей почему-то чувствовал себя ужасно уставшим. Хозяйка горячо поблагодарила его за работу, налила парного молока с колобком и отправила спать, посетовав на то, что ещё нужно посидеть за прялкой пару часов, с лучинкой для экономии.
Она достала из шкафа старинную прялку, подножка, колесо и даже шатун которой украшали странные буквы, больше похожие на наскальные надписи. На его вопросы старушка весело махнула рукой и ответила, что даже на русском языке писать не умеет, что уж говорить про такую науку. Она надела катушку на веретено, заправила прялку пухом, и начала работу. Колесо уютно поскрипывало, мерно вращаясь под негромкое пение мастерицы. Уже засыпая Алексей понял, где он раньше слышал эти строчки: «Ой вишня мояяяя, садовая моя, ой-ли - ой-люли, садовая моя, да не я тебя садила, сама сеялася, ой-ли - ой-люли, сама сеялася, сама прялочки взяла, да в посиделочки пошла, ой-ли - ой-люли, да в посиделочки пошла…»
Его разбудил странный шум. Он напоминал топот детских ног по деревянным дорожкам. Спросонья ему казалось, что целый детский садик бегает по крыше, раскачивает деревья в саду и скребется в дверь, как кошки, приглушенно хихикая.
За почти две недели жизни в деревне Алексе ни разу не встретил здесь ребенка, да и вообще никого моложе шестидесяти лет, поэтому сначала молодой человек решил, что всё это просто игра его сонного воображения. Однако, шум был слишком отчетливым и ярким. И, несмотря на глубокую ночь, Алексей решил подняться и проверить, в чем дело.
Любови Андреевны нигде не было видно, и он решил, что, наверное, она ушла в баню, чтобы его не будить, и уснула там вместе со своей прялкой. Спрыгнув с печки, молодой человек надел калоши, накинул куртку, вышел на улицу и спустился с крыльца, двигаясь по направлению к саду. Ему пришлось протереть глаза несколько раз, даже ущипнуть себя, чтобы убедиться, что то, что он видит ― это не последствия теплового удара или травяных чаев.
В саду были люди, вернее, целая толпа людей, как будто Алексей оказался в городском парке воскресным летним днем. Множество детей бегали вокруг, задорно переговариваясь друг с другом и прекрасно ориентируясь в темноте. Более того, окрестности всё так же мирно спали, казалось, никого из местных жителей не беспокоило то, что происходило прямо в огороде у Любови Андреевны. Тем более, что за ребятишками приглядывали взрослые. Алексей разглядел у вишен несколько женщин. Многим из них, судя по всему, не было и тридцати лет. Они переговаривались друг с другом с ласковыми, печальными улыбками. Иногда их сыновья и дочери подбегали к ним и, задыхаясь от возбуждения, что-то спрашивали. А потом опять возвращались на свою ярмарку веселья. Никто из них то ли не замечал Алексея, то ли он не представлял для них никакого интереса.
Более того, эти дети были очень странно одеты. Несмотря на темное время суток, Алексей заметил, что их костюмы сильно различались, словно все они были из разных эпох: красные, расшитые разноцветными нитками сарафаны на белых рубахах перемешались с хлопковыми платьицами, в которые надевали своих дочерей в Москве подруги его матери. Некоторые девочки и вовсе забирались на деревьях в одних ночных сорочках. Однако, больше всего детям понравилась качель. Столпившись около неё, они с восторгом смотрели на счастливицу, которой повезло забраться первой. Невысокая худощавая девчушка крепко держалась за веревки, раскачиваясь всё выше и выше, а её золотистые волосы, как сноп искр, загорались в ночном небе, периодически полностью скрывая её лицо. Приглядевшись, Леша почувствовал, как у него упало сердце. Оно остановилось на несколько секунд, а потом ударило его изнутри в грудь и понеслось галопом, сбивая дыхание.
Это была Злата. Такой, какой он её помнил. Легкая, вечно радостная и любознательная, самый смелый ребенок на свете, который не терпел никакой несправедливости и мчался спасать из беды даже муху, застрявшую в паутине у паука. Если с ней пытались заговорить, она всегда немного стеснялась, начиная наматывать прядь волос на мизинчик, но быстро брала себя в руки и тут же делилась каким-нибудь интересным наблюдением из недавней прогулки.
Это была его маленькая сестренка. И сейчас она совсем рядом, катается на его качели, звонко смеется, сдувая пушистые пряди волос. Она здесь, только руку протяни. Значит, всё это время она была здесь? Жива и здорова? Как же мама обрадуется!
Вытирая рукой влажные ресницы, Алексей решительно шагнул вперед, но тут на его предплечье опустилась чья-то твердая рука:
― Куда намылился, соколик?
Рядом с ним стояла Любовь Андреевна, почему-то вся закутанная в черный платок и в странном, расшитом темно-бордовыми камнями головном уборе того же цвета, напоминающим кокошник.
― Там моя сестра. Мне нужно забрать её домой.
Но Любовь Андреевна его не отпускала. Она по-прежнему, на удивление крепко держала его подле себя, внимательно заглядывая в глаза.
― Нельзя тебе туда. Встретитесь вы с ней, встретитесь, но не скоро ещё.
― Что вы за глупости-то говорите! Она пропала десять…
И тут до него дошло. Страшное осознание прокатилось по спине ледяными мурашками и застряло комом в горле.
― Уж не вырастет, ― со вздохом отозвалась старушка. ― Ничего, я напряла ей много-много добрых дней, всё у неё хорошо будет, всё будет хорошо.
― Напряли? Подождите, так все эти люди, они…они, что…
― Да кто где сгинул…― продолжала Любовь Андреевна, будто и не замечая его реакции. Она продолжала наблюдать за происходящим, расстроенно покачивая головой. ― Одни в лесу заблудились, другие в речке утопли, их русалки убаюкивают, да мне приносят, третьих медведь поломал, кто-то встретил злых людей, лихих, кого-то родной муж со свету сжил…Кто, где…
У Алексея всё поплыло перед глазами. Он схватился второй рукой за близстоящее дерево, крепко зажмурив глаза. Он всё ещё надеялся, что всё это ― какой-то ночной кошмар, ужасно сюрреалистичный, но…звуки никуда не исчезли. И когда он немного пришёл в себя, вокруг всё так же играли дети, а за ними тихо следили их матери.
― Многие маленькие ещё совсем…играть хотят, дети ведь. Но теперь всё уж позади. Всё прошло.
— Значит, она…― Алексей всё ещё не мог произнести это вслух. Он абсолютно ничего не понимал, ему было очень страшно. Но, почему-то, чем дольше он находился рядом с Любовью Андреевной, тем спокойнее становилась его душа.