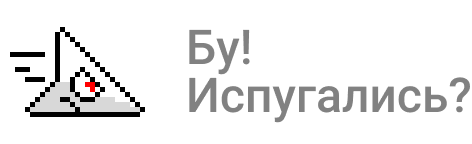— Борис Владимирович, вы меня вообще слушаете? — голос врача смягчился, кажется, в нём проснулась даже какая-то зачаточная эмпатия.
— А? Да-да, сделали всё, что в ваших силах, я это уже слышал. Понятно. Остаток денег за курс лечения переведу сегодня вечером. Всего доброго.
— Вам… может быть, порекомендовать психолога? Паллиативная терапия опять же... — робко заикнулся доктор.
Борис ответил ему хлопком двери.
В голове звенела пустота, размазывала измочаленные мысли по стенкам черепной коробки, словно лезвия миксера. Борис отменил все совещания и дал директорам отмашку: действовать по обстоятельствам. Вкладываться в то, что умрёт вместе с ним он не видел никакого смысла. Империи Марченко суждено было почить вместе с её императором. «Хоть на венках к похоронам сэкономим» — хмыкнул он, и сам ужаснулся. Пустота из черепа стекла холодным киселем по позвоночнику и угнездилась в сердце.
Свои последние деньки он решил провести дома с женой — в уютном коттедже с ухоженным садом, банькой, оборудованной холодной купелью и шикарным грилем на террасе, в далеком прошлом собиравшем вокруг себя гостей. От досады Борис едва не выл — всё то, на что он корячился в поте лица не успело даже как следует износиться. Раскаленная парилка, ледяное «Крушовице» из драфта — как в баре, ароматные шашлыки, всему этому было суждено остаться лишь воспоминанием.
Сын проводить время с родителем желанием не горел. Борис пытался надавить, но понимал, что бесполезно: избалованное городское дитя даже ради умирающего отца не согласится переехать пусть и в элитное, но Подмосковье. Впрочем, ради приличия младший заезжал раз-другой на выходные с очередной размалеванной шалашовкой. Мозг машинально дорисовывал прейскурант: три тысячи в час классика, анал с доплатой, МБР — еще две с половиной. После всех химиотерапий Бориса оттеснило и от этого прилавка; теперь он мог только, подобно Диккенсовским сиротам, пялиться на витрины.
Экспериментальные лекарства, позволявшие кое-как переваривать пищу, заканчивались. Борис мог бы заказать в Израиле новую партию за неприличные деньги, но какой смысл внушать себе иллюзию нормы? Все летело в тартарары — чем раньше примешь, тем лучше.
— Борь, я шиповник заварила, как ты любишь, — Марина вышла на террасу, робкая, суетливая, будто бы в чем-то виноватая. В руках Марченко-старшего покоилась «Угрюм-река» Шишкова. Столько лет откладывал, собирался прочесть, а теперь буквы скакали, сплывались в единую взбухшую опухоль, которая, того и гляди лопнет, обрызгав читателя буквенным гноем.
— Здорово, здорово, — ответил Борис серым, бесцветным голосом. – Решил, знаешь, почитать классику советскую, а и тут этот проклятый рак. Герой там такой есть, Протасов, печенью заболел. Нигде, нигде от этой дряни мне покоя нет…
Марина едва сдерживала слёзы. Она привыкла видеть мужа эдаким железным человеком, способным решить любую проблему. Борис всегда жил «вопреки»: он был «отказником» в роддоме, пережил безрадостное интернатовское детство, а потом несколько покушений в девяностые годы. Казалось, что сломить его невозможно, но этот чёртов рак…
Марина знала: муж её человек советской закалки, скептик; как говорится «ни в Бога, ни в черта». Она и сама не верила во всяких колдунов и экстрасенсов, но если Боря сдался — впервые в жизни — то нужно подставить ему плечо, подтолкнуть, и бычок, дошедший до конца доски, сделает шаг и пойдет дальше; так ей казалось. Лечением Борис занимался сам, не вмешивая семью: уже были и дорогие врачи, и экспериментальные лекарства, лечение в за границей и взятка за место в очереди на пересадку. Марина не привыкла решать проблемы сама, а уж тем более за мужа, а потому слегка смущалась, но одновременно гордилась пришедшей ей в голову идеей. Главное, подать аккуратнее.
— Борь, выпей шиповник, пожалуйста…
— Тьфу ты, да выпью сейчас. Вот прицепилась!
Борис зашёл на кухню и плеснул себе в чашку ароматного отвара. Шиповник был, пожалуй, единственным, от чего живот не сводило тягучей болью.
— Борь… Я… Я понимаю, как ты к этому всему относишься. Но обещай мне, что выслушаешь, ладно?
— Та-а-ак, — набычился Борис, собираясь выслушать очередную умильную ерунду, порожденную женским мозгом. Только на этот раз вместо умиления, как желчь к горлу, подступало раздражение.
— Просто выслушай, хорошо? Не перебивай и не ори.
— Давай попробуем, — осклабился он, не скрывая скепсиса.
— В общем, я тут с Вероничкой созванивалась, ну, помнишь, жена Саши Миронова? — затараторила Марина, будто опасаясь, что в любой момент её остановят, перебьют, — У Саши, в общем, в том году обнаружили рак простаты. Неоперабельный. Как у тебя. До терминальной стадии дотянули, а потом его Вероничка всё же уговорила…
— Ну? На что? Не тяни кота за это самое!
— Уговорила, в общем, его в одну деревню поехать, под Калугой. Там живет христианская община…
«Во-о-о-т, куда деньги уйдут» — мрачно подумал Борис, — «Сектантам на кагор да на просвиры». Но говорить не стал. Бросил лениво:
— И, в общем… Вероничка маленького ждет. Шестой месяц. От Сашки. Вылечили его там…
Борис даже в подобных мелочах был человеком слова: обещал не орать — не орал, но послал жену одним только взглядом.
— Я шиповничек-то допью, а потом книгу дочитывать сяду. Ты не мешай мне, пожалуйста, больше. А Вероничка твоя — блядь. Так ей и передай.
От досады Борис так скрипнул зубами, что, кажется, скрошил эмаль хваленой металлокерамики. Сначала расстроился, а потом преисполнился мрачным весельем — «Потерявши голову, по зубам не плачут».
Всю ночь Борис ворочался, не мог уснуть, разбудил Маринку. Под напором совести отправился спать в гостевую, где обычно останавливался младший. Сегодня гостевая пустовала. Там, лёжа на матрасе с «эффектом памяти» — страшно представить, что бедняга успел запомнить после редких ночевок Марченко-младшего — Борис разглядывал отделку потолка из карельского дуба, какой-то пейзажик, купленный с женой на Измайловском вернисаже, старенький DVD-плеер — он приобрел его одним из первых в Москве на Митинском радиорынке; и мучительно не хотелось отдавать это всё голодной, сосущей пустоте, ждавшей его по ту сторону. В том, что там его ждёт пустота, Борис не сомневался ни секунды, и лишь теперь, оставшись в темноте и одиночестве осознал, насколько она его на самом деле пугает. Кто-то из умных да начитанных когда-то сказал, что «не бывает страха без надежды и надежды без страха». И страха было предостаточно, о да, а надежда… Черт с ним, пускай будет такая! В конце концов, лучше уж самому просрать всё нажитое непосильным трудом, хотя бы на шанс исцеления, нежели позволить младшему просадить Империю самолично — на шлюх и, подозревал Борис, белый порошок. Решающие битвы с раком проиграны, но на войне ведь все средства хороши, верно?
Встал Борис с тяжелой головой, долго смотрел на телефон в руке, решаясь. Наконец, нажал на кнопку вызова. Шли гудки, Миронов не отвечал. За секунду до сброса…
— Саша, здравствуй, это Борис. Узнал?
— Марченко? Батюшки, когда мы последний раз с тобой виделись, лет шесть назад?
— Да, на свадьбе Гришаева.
— Ты по делу или так, соскучился? — Миронов зевнул в трубку. — Я бы ещё часочек покемарил.
— Да я слышал, у тебя прибавление грядет? Ну вот так, поздравить.
— Это ты что-то поторопился, Борь, — Миронов, прошедший девяностые, насторожился, — Намекаешь на что?
Борис вздохнул, собираясь с силами, и выпалил скороговоркой:
— Саш, у тебя правда был рак простаты?
Миронов на том конце молчал. Лишь слышалось какое-то недовольное сопение.
— Саш, у меня рак. Неоперабельный. Метастазы уже в позвоночнике. Я слышал… Вероника рассказала, что тебе помогли. В какой-то общине под Калугой… Уже все лекарства перепробовал; и немцы, и швейцарцы, и жиды — все руками разводят. Был у нашего академика Семёнова, и тот меня отписал, хоть и бабки взял за старания. В общем, последняя надежда, получается. Саш, скажи, это правда?
— Правда, правда, — как-то буднично и с ленцой ответил Миронов, будто и не было напряжённого молчания. — Я, кстати, прямо сейчас здесь. Тут круто: пейзажи как в Тоскане, вино домашнее и самогон, воздух чистый. Я как вылечился, стараюсь почаще сюда ездить.
— А я… — Борис справился с волнением, выдохнул, — А мне помогут?
Миронов помолчал некоторое время, посопел в трубку.
— Не проблема, Борь. Приезжай, я с Заотцом поговорю. Они-то помогут, но тут, как бы тебе это попроще сказать, есть свои понятия. Религиозные. Вот это всё нужно принять как положняк и не моросить. Если всё чётко и по-красоте сделаешь, никаких проблем не будет. Ну что, ты едешь? Поляну готовить?
— Еду. — решил Борис. Впрочем, решил он это ещё до звонка.
Сашка Миронов — бывший рэкетир из Люберецких, легализовавшийся в начале нулевых. Выжил, побыл какое-то время помощником префекта Рязанского района в Москве, открыл несколько автомоек, а потом пропал с радаров. Серьёзный человек; скажи кто Борису, что Миронов уехал к сектантам, покрутил бы пальцем у виска. Нет, Сашка ерунды советовать точно не станет.
В последнее время симптомы, объединившись с побочками от лечения стали слишком заметны, поэтому за руль Борис уже давно не садился. Можно было вызвать водителя, но он хотел пообщаться с младшим. Сын такого желания не питал, но давление на совесть и угрозы финансовому благополучию возымели свой эффект. Уже к полудню новенький Форд «Мустанг» ждал Бориса у калитки. В салоне пахло приторно-сладкими, даже не женскими, а какими-то подростковыми духами.
— Здорово, бать! — поздоровался Женя, Марченко-младший.
— Окно опусти, дышать нечем, — проигнорировал приветствие отец, — Забивай в навигатор: деревня Клещи, Калужская область.
— Ого, вот это перди! Чего ты там забыл, бать?
Изнутри машина выглядела уже не такой новой, неся на себе следы многочисленных пороков хозяина: сигаретный пепел, въевшийся в пластик; женские туфли, загнанные под сиденье; какие-то стаканчики из «Старбакса», бумажный пакет из «Макдоналдса». Особенно в глаза бросалась маленькая пудреница с зеркальцем лежащая в дверном кармашке. Вряд ли Марченко-младший настолько следил за внешностью — мешки под глазами и расчёсанный подбородок говорил об обратном. Зато на назначение зеркальца указывал подвижный, постоянно шмыгающий нос. Борис злился. Он не понимал, почему сын вырос такой мразью. Вроде бы и воспитывал его правильно, и не баловал особо. Почему он такой? В кого? Даже не спросил, мерзавец, как себя чувствует отец.
— Лечиться буду. Я тут подыхаю, если ты не забыл.
— Понял-понял, лечиться так лечиться, — обиженно буркнул Женя.
Ехали быстро. Борис и не думал костерить сына за то, что тот нагло превышает скорость. Случись что — спасёт всемогущая коррупция: Борис имел крепкую привычку всегда носить с собой наличные.
Мелькала за окнами Рублёвка, попались по пути два павильончика Цветочной империи. Почему-то от их вида затошнило. Очень ярко представилось, как симпатичная девчушка-флористка за прилавком выполняет заказ: венок на еловой ветви, лента из натурального шелка и по букетику на гостей. Ах да, и бутоньерка для покойника из двух ирисов, под цвет зашитых при бальзамации глаз. Его, Бориса, глаз.
Выходной день, на МКАДЕ почти свободно. К трём часам дня уже проезжали Обнинск. Навигатор упрямо отказывался выбирать прямой маршрут до Клещей, постоянно перестраиваясь.
Какими-то окольными, бесовскими путями добрались до деревни только к закату. Миронов встречал на самой окраине деревни — у полуразрушенной деревянной хатки и самодельного, из соснового бревна, шлагбаума.
— Борька! — крикнул Миронов. Высокий, крепко-сбитый мужичище. Он сильно облысел, но, кажется, с годами стал только мясистее. — Приехал, братан!
Борис с Мироновым крепко обнялись.
— Марченко, ёб твою мать, одни кости остались! Ну, ничего-ничего. Заотец тебе здоровье поправит, помяни моё слово.
Миронов сделал шаг в сторону, чтобы пожать руку Жене.
— Вырос, лосяра! — громко и радостно, почти крича, сказал Миронов. — Здоровый, здоровый! Ну что, пойдёмте, я вас к Заотцу отведу — там уже поляна накрыта.
— Дядь Саш, я поеду, — спешно отморозился сын, — У меня ещё дела завтра в Москве, бизнес-то на мне, пока батя отдыхает.
В голосе послышалось нечто новое — гордость? Самодовольство? Важничает или готовится принимать наследство? Но Миронов ничего как будто не заметил.
— Давай-давай, вали, мы тут дальше сами.
Борис хотел съязвить насчёт сыновьих «дел», но сдержался. Сухо и без эмоций пожав руку, отпустил отпрыска обратно в столицу.
Над рваным краем деревенских крыш возвышалась старинная церковь. Купола у неё не было, как не было и креста; лишившись колокола, навсегда онемела и колокольня. Но заметны были и следы реставрации: на старой кладке белели пятна свежей штукатурки, кое-где обновили и сам кирпич.
— Церква эта, прикинь, почти четыреста лет стоит. В двадцатые годы коммуннисты отсюда всё растащили, кто куда, иконы — в музеи, канделябры — в ломбарды. Спасибо хоть здание под склад оставили, — вёл свою нехитрую экскурсию по Клещам Миронов, — Мы сейчас как раз туда. С Заотцом познакомишься.
— А Заотец — это типа батюшки?
— Своего рода. Он типа нам тут всем «за отца», такая вот местная мулька. Ты глаза не закатывай, тут много такого… странного. Не забивай голову, так надо. Знай одно — здесь тебе помогут.
Они шли вдоль узкой сельской дороги, навстречу попадались люди, одетые по-крестьянски просто. Женщины ходили с покрытыми головами, глядеть в глаза избегали, чуть что — зенки в пол; мужики тоже как будто в какой-то мешковине, и каждый занят каким-то делом: что-то несет, тащит, рубит, пилит, точно процессия муравьёв, трудящаяся на благо матки. Но что удивило Бориса больше всего — множество темнокожих детишек, играющих в пыли по краям дороги. Чуть ли не каждый третий ребятёнок — мулат.
— Чёрненькие — это Заотца дети, — ответил Миронов на немой вопрос, застывший во взгляде Бориса.
— У вас тут типа свободная любовь? Как у хиппи?
— Нет, только у Заотца. Смену себе воспитывает. Говорит, мол, белые так много лопотали имя Божье, что истрепали его, и Бог их больше не услышит. Не смотри так, я предупреждал. Принимай как есть.
Заотец ждал их на пороге церкви: высокий, дородный негр, одетый в самую натуральную православную рясу греческого кроя. На пуховом одеяле серых бараньих кучеряшек покоилась скуфья. Был Заотец немолод: в седой окладистой бороде остались лишь небольшие чёрные прожилки. Лицо его было испещрено бесчисленными морщинами, а глаза, многие годы назад бывшие карими, выцвели до желтизны.
— Добро пожаловать в Клещи, страдалец, — Заотец имел идеальное произношение, голос поставленный — церковный; закрой глаза, и покажется, будто с тобой беседует всамделишный батюшка. — Брат Александр рассказал мне о твоей беде.
«Брат. Точно, секта» — подумалось Борису. Заотец пожал ему руку — не пальцы, а клещи — и жестом пригласил войти в храм.
— В ногах правды нет, дети мои. Заходите, посидим — выпьем.
— А разве можно в церкви употреблять, батюшка? — спросил Борис с ехидцей.
— А разве Иисус не завещал пить кровь его?
Стены храма покрывала свежая роспись: скорбные лица, сутаны — типичные для православия символы. Но это лишь на первый взгляд. Стоило лишь присмотреться, как становилось ясно, что вся эта стандартная иконография — лишь часть композиции, по центру которой расположилось нечто кошмарное, но величественное. Вместо святых с монструозной по размерам фрески на Марченко смотрели странные и жуткие существа: вот — могучий воин в сверкающих доспехах, глаза навыкате, лицо искажено не то яростью, не то апоплексическим ударом; рядом — тощий, похожий на скелет оборванец, раззявивший рот в голодной мольбе; следом — раздутое, похожее на подгнивший труп чудище с вытекшими глазами, а по центру — высокая, костлявая фигура, замотанная в чёрный саван.
— Это… — вспомнились сцены из всяких «Оменов» и «Кодов да Винчи»: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним», — Как их? Всадники апокалипсиса?
— Нет, — ответил Заотец, жестом приглашая сесть за низкий столик, в котором Борис с удивлением узнал жертвенник. — Их зовут Вакомбози. Посмотри наверх.
Борис поднял голову: со сводчатого потолка на него смотрел Иисус — как всегда, в православной традиции, строгий и печальный. Затем он снова посмотрел на Вакомбози и только сейчас заметил, что их взгляды — тех, у кого были лица — обращены к Христу.
— Вы человек не религиозный, я так полагаю? — спросил Заотец.
— Да знаете, как-то… мимо меня все это.
— Советское воспитание, понимаю. Впрочем, думаю, вы и без того знаете, что в вашей Библии много неточностей. Сначала перевод на греческий, потом на латынь, потом версия Короля Джеймса… Уж к апокрифам подавно никто не относился серьезно, сами знаете...
Борис не знал; все сказанное не имело для него никакого смысла, но он упорно делал вид, что слушает. Если уж такова цена исцеления. А Заотец вещал:
— Наша церковь, Церковь святых Искупителей, берет свои корни из глубин Африки, из места зарождения первого человека. Там вера передается не через пожухлые страницы и заплесневелые талмуды, а через слова матери к сыну, от племени к племени, и Господь упаси тебя исказить хоть единую букву — не простят.
— Кто не простит? — перебил Борис, но Заотец будто не заметил.
— Вся Библия — лишь летопись событий прошлого. Вся, включая откровение от Иоанна. То самое, в котором Зверь из моря, имеющий мудрость — сочти число и прочая растиражированная Голливудом лабудистика, — со значением взглянул в глаза Борису Заотец, точно прочел его мысли, — Так вот, Борис, правда в том, что апокалипсис уже случился.
«Апокалиптическая секта, дождавшаяся апокалипсиса. Что-то новенькое» — мысленно хмыкнул Марченко, но сам спросил другое:
— То есть, конец света уже наступил? А почему мы тогда…
— Живы? Вы это хотели спросить? — Заотец продемонстрировал крупные, как у лошади, белые зубы — белее хваленой металлокерамики, — Я вам отвечу: Господь победил, как и написано в Книге Книг. Антихрист с Диаволом были повержены и сброшены в геенну огненную, а демон войны, демон болезней, демон голода и сама Смерть, которых мы называем Вакомбози, побежденные, дали клятву верности Христу и тот пообещал им прощение, если они сделают добра в два раза больше, чем принесли зла. Вакомбози — наши посредники при общении с Христом. Они очень хотят искупить свои грехи, поэтому помогают всем, кто просит о помощи.
— Это очень, конечно, интересно, спасибо за религиозный экскурс, но… Как мне это поможет вылечиться?
Тычок локтем от Миронова Марченко проигнорировал.
— Ох, как тебя там… Борис? Вот поэтому, Борис, я после РУДН и не смог остаться в столице. Люди привыкли в большом городе к этой суете, всё им сразу подавай — немедленно. Разучились они чувствовать момент, а здесь, в Клещах, совсем другая жизнь. Почти как на родине, в Танзании. Хорошо, если вам так не терпится…
Борис кивнул — ему не терпелось; метастазам тоже. Заотец продолжил:
— Я вас сразу предупрежу: попросив о помощи Вакомбози отказаться будет невозможно. Долг перед Христом их тяготит и мучает; чтобы с ним разделаться, они пойдут на всё, на любые ухищрения, любые лазейки — лишь бы поскорее избавиться от своих обязательств. Поэтому если вдруг будете… как это у вас? Дурковать. Так вот, если вдруг будете дурковать или сомневаться — Вакомбози помогут уже по-своему. На собственный, так сказать, манер. Это понятно?
Дождавшись повторного кивка, Заотец расставил перед собой рюмки и достал из-под стола пузатую бутыль с мутной розоватой жидкостью. Разлил как русский человек — с первого раза поровну.
— Настойка на крови и чесноке.
Борис взял рюмку, посмотрел на просвет — мутно.
— Чего ты её греешь? Пей, давай.
— Так у меня же с желудком беда… Мне нельзя такое…
— Хватит тут сложностей! — Заотец крикнул глубоким басом; эхо заметалось под куполом. — Ты сюда лечиться приехал или спорить? Пей, говорят тебе.
Борис с недоверием принюхался к рюмке. Сразу же затошнило; уже тысячу лет не доводилось даже притрагиваться к алкоголю. Пахло дешёвой сивухой и чесноком. Под пристальным взглядом Заотца он всё же опрокинул в себя рюмку. Воспалённый желудок обожгло, захотелось блевануть.
— Нет, нет, нет! Терпи, так надо. Закрой глаза, — почти рычал Заотец. — Так, юлой, юлой давай! Ну, пошибче!
Борис почувствовал, как крепкие руки раскручивают его словно волчок. Сдерживать тошноту стало совершенно невыносимо.
Сделав ещё несколько витков по инерции, Борис упал на каменный пол, желудок вывернуло наизнанку. Ладоням стало теплее; Борис открыл глаза и понял, что наблевал на собственные руки. Кровью. В глазах всё ещё плясали мушки. Проморгавшись, Борис обнаружил, что стоит на коленях перед рисунком тощего человека в рванье. Тот, кажется, слегка зажмурился — будто от удовольствия. Голод, всадник апокалипсиса.
— Тебя выбрал Вакомбози Нья. Голод — по-вашему. Человек может ошибаться, но Вакомбози — никогда. Мне как Саша про тебя рассказал, я всё думал — кто откликнется по твою душу? А как увидел — сразу понял, ты тоже голодный, до жизни голодный, все мало тебе, но… в этих вопросах лучше положиться на самих Вакомбози. Скажи мне, Боря, ты сильно жить хочешь?
Этот вопрос пугал. Борис, не слишком-то крупный человек, еще и усохший за время «лечения», на фоне почти двухметрового дородного негра выглядел и вовсе жалким. Он хотел бы передумать, позвонить сыну и отправиться обратно в Барвиху — доживать последние деньки. Но чёртов Миронов с его убедительными речами, этот чёрный псевдоиерей, жутковатая, по-свойски восстанавливаемая церковь: ни доверия, ни надежды это не внушало, был лишь тупой фатализм — хуже уже не будет.
— Хочу, Заотец. Сильно хочу.
— Добро, добро, сынок. Хочешь, значит — будешь, — Заотец обратился к Миронову, — Он сегодня у тебя ночует. Да проследи, чтоб всё чин-чинарем — чистота, порядок и свежие простыни, а то знаю я тебя.
И Миронов, суровый люберецкий Миронов, который забивал гвозди в колени должникам, подобострастно кивнул, почти поклонился. Лишь после помог Борису подняться.
Домик Миронова оказался скромным обиталищем, даже правильнее сказать «обителью» — этакой кельей. Назвать это полноценным жильём язык не поворачивался: скорее летняя кухня, обставленная нехитрой мебелью. Несмотря на то, что на дворе стояла цветущая весна, было довольно холодно. Саша с этим боролся, то и дело подкармливая дровами небольшую буржуйку в углу. Борису постелил на продавленной тахте, сам улегся на простецкий топчан. И ведь не скажешь, что человек с минфином один забор по даче делит.
Марченко сам не заметил, как уснул. Он давно не спал так крепко, и когда его растормошили крепкие руки Заотца, подумалось, что только-только коснулся головой подушки, только-только закрыл глаза. Борис посмотрел на часы: половина четвёртого, проспал пять часов.
— Вставай. Пора. Вставай.
Он попытался подняться с кровати, но острая кинжальная боль пронзила брюхо: истерзанный желудок всё ещё бушевал после местной настойки. Борис достал из кармана олимпийки баночку с дорогими швейцарскими таблетками, наколупал себе несколько штук, но Заотец ударил по руке, выбив баночку и разметав драгоценные ампулы по доскам пола.
— Тебе это больше не нужно! Обидишь Вакомбози. Идём!
Заотец почти вытолкал Бориса на улицу. Снаружи их ждали два мулата, одетые в подрясники. Должно быть — старшие сыновья Заотца. Родитель сказал им что-то на своём языке, один из парней — с виду постарше, указал пальцем на полевые носилки.
— Это на случай, если по дороге плохо станет. У Чинеду с собой есть лекарственные снадобья, но уверен — они не понадобятся. Вакомбози сберегут. Ну, хватит болтать, пошли!
Правду ведь говорят: ночь темнее перед рассветом. Они шли вдоль пустого просёлка, и казалось, что тьма в эту пору какая-то особенно густая, будто смело соперничает со светом, грозясь побороть фонари.
С просёлка свернули в лес; Миронов зажёг керосинку. Естественное для каждого человека светолюбие сейчас работало в обратную сторону: в рыжих лучиках керосиновой лампы деревья отбрасывали хищные тени, казалось, будто чёрные кривые пальцы тянутся за путниками, будто мелькают за изогнутыми стволами осин гуттаперчевые фигуры.
Замаячила впереди рощица православных крестов и каменных памятников. Кладбище.
— Выбирай могилу, Борис. Через неё ты свяжешься с Нья. Выбирай сердцем.
Всё это стало напоминать какую-то дурацкую фантасмагорию: Вакомбози, кладбище, поиск «своей» могилы, эти мулатистые ребята с носилками. Скажи кто Борису года этак два назад, что он станет заниматься подобной чепухой, рассмеялся бы да пальцем у виска покрутил. А что остаётся, когда послезавтра мертвец уже ты сам? Хуже уже точно не будет. Как там — «без страха нет надежды»?
Борис петлял по старому сельскому кладбищу, разглядывая в свете керосинки фотоовалы на надгробиях: сплошь суровые, неулыбчивые русские лица. Какой должна быть она — «своя»?
И тут на глаза попалась гранитная плита, а на фотографии щекастый такой, улыбчивый толстяк. На овале то ли белела царапина, то ли пухляш уселся перед фотоаппаратом, не убрав с лица сметану от съеденных вареников. «А ты, боров, поди, был не дурак потрескать!» — почти с завистью подумал Борис, — «Небось, желудок-то луженый, не то что мой!» И тут догадка пронзила мозг. Вот оно!
— Этот! — почти воскликнул Борис, сам не зная, чему радуется. — Его выбираю!
Из темноты бесшумно вышел Заотец. Он остановился возле поржавелой оградки и с деланным любопытством посмотрел на фотоовал.
— Ишь, какой Винни-Пух. Годится, — сказал он. — А теперь ешь.
— Глупый человек, землю кладбищенскую кушай, она сейчас твоё лекарство.
— Мужик, ты в себе? Не буду я…
— Мужики поле пашут, — отрезал Заотец, вздохнул тяжко, запричитал, — Глупый, глупый человек. Жить хочет, а кривляется! Ну, ты не серчай за помощь такую, сам помнишь — Вакомбози обидчивы. Саня, Чинеда, Абангу, вяжите его. Лечить будем.
— Без обид, Борян, — растерянно извинился Миронов. — Но реально так надо…
Два худых и жилистых, неожиданно сильных мулата скрутили руки, Миронов больно надавил на скулы, отчего рот раскрылся сам собой, как у карпа. Заотец не стал терять времени: зачерпнул горсть земли широкой своей ладонью и как есть сунул Борису в рот. Крепкие руки Миронова тут же заставили челюсти сомкнуться.
— Жуй, глотай! В твоих интересах, мзунгу!
Борис, чувствуя, как крепкая хватка перекрыла кислород, послушно задвигал челюстями. Земля скрипела на зубах, попадались мелкие корешки и бог знает что ещё. Кажется, нёбо пощекотал червяк. Месиво было почти безвкусным, и Борис, спустя несколько мгновений, проглотил скользкую жижу.
Его отпустили, и он рухнул наземь — прямо на обильные остатки своего блюда. Сразу потянуло в сон, ноги сделались ватными. Желудок должен сейчас сходить с ума, пытаясь из последних сил переварить грубо заброшенное в него несъедобное кашло, но… ни боли, ни рези, ни обычной агонии — даже от чёртовых овсяных хлебцов — не было. Напротив, Борис чувствовал необъяснимое облегчение и навалившуюся сонную тяжесть.
— Мужики, я… не могу идти… — только и успел сказать Борис, и провалился куда-то в тёмную безмятежность.
— Хоть не зря носилки пёрли, — отозвался прыщавый мулат Абангу. — Давай, на раз-два...
(продолжение в коментах, обратите внимание - каждая часть рассказа обозначена цифрой в заглавье, чтобы не путаться)