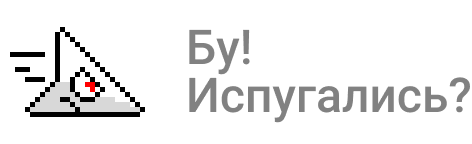Рэй Бредбери - Уснувший в Армагеддоне.
Никто не хочет смерти, никто не ждет ее. Просто что-то срабатывает не так, ракета поворачивается боком, астероид стремительно надвигается, закрываешь руками глаза - чернота, движение, носовые двигатели неудержимо тянут вперед, отчаянно хочется жить - и некуда податься.
Какое-то мгновение он стоял среди обломков...
Мрак. Во мраке неощутимая боль. В боли - кошмар.
Он не потерял сознания.
"Твое имя?" - спросили невидимые голоса. "Сейл, - ответил он, крутясь в водовороте тошноты, - Леонард Сейл". - "Кто ты?" - закричали голоса. "Космонавт!" - крикнул он, один в ночи. "Добро пожаловать", - сказали голоса. "Добро... добро...". И замерли.
Он поднялся, обломки рухнули к его ногам, как смятая, порванная одежда.
Взошло солнце, и наступило утро.
Сейл протиснулся сквозь узкое отверстие шлюза и вдохнул воздух. Везет. Просто везет. Воздух пригоден для дыхания. Продуктов хватит на два месяца. Прекрасно, прекрасно! И это тоже! - Он ткнул пальцем в обломки. - Чудо из чудес! Радиоаппаратура не пострадала.
Он отстучал ключом: "Врезался в астероид 787. Сейл. Пришлите помощь. Сейл. Пришлите помощь". Ответ не заставил себя ждать: "Хелло, Сейл. Говорит Адамс из Марсопорта. Посылаем спасательный корабль "Логарифм". Прибудет на астероид 787 через шесть дней. Держись".
Сейл едва не пустился в пляс.
До чего все просто. Попал в аварию. Жив. Еда есть. Радировал о помощи. Помощь придет. Ля-ля-ля! Он захлопал в ладоши.
Солнце поднялось, и стало тепло. Он не ощущал страха смерти. Шесть дней пролетят незаметно. Он будет есть, он будет спать. Он огляделся вокруг. Опасных животных не видно, кислорода достаточно. Чего еще желать? Разве что свинины с бобами. Приятный запах разлился в воздухе.
Позавтракав, он выкурил сигарету, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. Радостно покачал головой. Что за жизнь. Ни царапины. Повезло. Здорово повезло.
Он клюнул носом. Спать, подумал он. Неплохая идея. Вздремнуть после еды. Времени сколько угодно. Спокойно. Шесть долгих, роскошных дней ничегонеделания и философствования. Спать.
Он растянулся на земле, положил голову на руку и закрыл глаза.
И в него вошло, им овладело безумие. "Спи, спи, о спи, - говорили голоса. - А-а, спи, спи" Он открыл глаза. Голоса исчезли. Все было в порядке. Он передернулся, покрепче закрыл глаза и устроился поудобнее. "Ээээээээ", - пели голоса далеко- далеко. "Ааааааах", - пели голоса. "Спи, спи, спи, спи, спи", - пели голоса. "Умри, умри, умри, умри, умри", - пели голоса. "Оооооооо!" - кричали голоса. "Мммммммм", - жужжала в его мозгу пчела. Он сел. Он затряс головой. Он зажал уши руками. Прищурившись, поглядел на разбитый корабль. Твердый металл. Кончиками пальцев нащупал под собой крепкий камень. Увидел на голубом небосводе настоящее солнце, которое дает тепло.
"Попробуем уснуть на спине", - подумал он и снова улегся. На запястье тикали часы. В венах пульсировала горячая кровь.
"Спи, спи, спи, спи", - пели голоса.
"Ооооооох", - пели голоса.
"Ааааааах", - пели голоса.
"Умри, умри, умри, умри, умри. Спи, спи, умри, спи, умри, спи, умри! Оохх, Аахх, Эээээээ!" Кровь стучала в ушах, словно шум нарастающего ветра.
"Мой, мой, - сказал голос. - Мой, мой, он мой"
"Нет, мой, мой, - сказал другой голос. - Нет, мой, мой, он мой!"
"Нет, наш, наш, - пропели десять голосов. - Наш, наш, он наш!"
Его пальцы скрючились, скулы свело спазмой, веки начали вздрагивать.
"Наконец-то, наконец-то, - пел высокий голос. - Теперь, теперь. Долгое-долгое ожидание. Кончилось, кончилось, - пел высокий голос. - Кончилось, наконец-то кончилось!"
Словно ты в подводном мире. Зеленые песни, зеленые видения, зеленое время. Голоса булькают и тонут в глубинах морского прилива. Где-то вдалеке хоры выводят неразборчивую песнь. Леонард Сейл начал метаться в агонии. "Мой, мой", - кричал громкий голос. "Мой, мой", - визжал другой. "Наш, наш", - визжал хор.
Грохот металла, звон мечей, стычка, битва, борьба, война. Все взрывается, его мозг разбрызгивается на тысячи капель.
"Эээээээ!"
Он вскочил на ноги с пронзительным воплем. В глазах у него все расплавилось и поплыло. Раздался голос:
"Я Тилле из Раталара. Гордый Тилле, Тилле Кровавого Могильного Холма и Барабана Смерти. Тилле из Раталара, Убийца Людей!"
Потом другой: "Я Иорр из Вендилло, Мудрый Иорр, Истребитель Неверных!"
"А мы воины, - пел хор, - мы сталь, мы воины, мы красная кровь, что течет, красная кровь, что бежит, красная кровь, что дымится на солнце".
Леонард Сейл шатался, будто под тяжким грузом. "Убирайтесь! - кричал он. - Оставьте меня, ради бога, оставьте меня!"
"Ииииии", - визжал высокий звук, словно металл по металлу.
Молчание.
Он стоял, обливаясь потом. Его била такая сильная дрожь, что он с трудом держался на ногах. Сошел с ума, подумал он. Совершенно спятил. Буйное помешательство. Сумасшествие.
Он разорвал мешок с продовольствием и достал химический пакет.
Через мгновение был готов горячий кофе. Он захлебывался им, ручейки текли по нёбу. Его бил озноб. Он хватал воздух большими глотками.
Будем рассуждать логично, сказал он себе, тяжело опустившись на землю; кофе обжег ему язык. Никаких признаков сумасшествия в его семье за последние двести лет не было. Все здоровы, вполне уравновешенны. И теперь никаких поводов для безумия. Шок? Глупости. Никакого шока. Меня спасут через шесть дней. Какой может быть шок, раз нет опасности? Обычный астероид. Место самое-самое обыкновенное. Никаких поводов для безумия нет. Я здоров.
"Ии?" - крикнул в нем тоненький металлический голосок. Эхо. Замирающее эхо.
"Да! - закричал он, стукнув кулаком о кулак. - Я здоров!"
"Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха". Где-то заухал смех. Он обернулся. "Заткнись, ты!" - взревел он. "Мы ничего не говорили", - сказали горы. "Мы ничего не говорили", - сказало небо. "Мы ничего не говорили", - сказали обломки.
"Ну, ну, хорошо, - сказал он неуверенно. - Понимаю, что не вы".
Все шло как положено.
Камешки постепенно накалялись. Небо было большое и синее. Он поглядел на свои пальцы и увидел, как солнце горит в каждом черном волоске. Он поглядел на свои башмаки, покрытые пылью, и внезапно почувствовал себя очень счастливым оттого, что принял решение. Я не буду спать, подумал он. Раз у меня кошмары, зачем спать? Вот и выход.
Он составил распорядок дня. С девяти утра (а сейчас было именно девять) до двенадцати он будет изучать и осматривать астероид, а потом желтым карандашом писать в блокноте обо всем, что увидит. После этого он откроет банку сардин и съест немного консервированного хлеба с толстым слоем масла. С половины первого до четырех прочтет девять глав из "Войны и мира". Он вытащил книгу из-под обломков и положил ее так, чтобы она была под рукой. У него есть еще книжка стихов Т. С. Элиота. Это чудесно.
Ужин - в полшестого, а потом от шести до десяти он будет слушать радиопередачи с Земли - комиков с их плоскими шутками, и безголосого певца, и выпуски последних новостей, а в полночь передача завершится гимном Объединенных Наций.
А потом?
Ему стало нехорошо.
До рассвета я буду играть в солитер, подумал он. Сяду и стану пить горячий черный кофе и играть в солитер без жульничества, до самого рассвета. "Хо-хо", - подумал он.
"Ты что-то сказал?" - спросил он себя.
"Я сказал: "Хо-хо", - ответил он. - Рано или поздно ты должен будешь уснуть".
"У меня сна - ни в одном глазу", - сказал он.
"Лжец", - парировал он, наслаждаясь разговором с самим собой.
"Я себя прекрасно чувствую", - сказал он.
"Лицемер", - возразил он себе.
"Я не боюсь ночи, сна и вообще ничего не боюсь", - сказал он.
"Очень забавно", - сказал он.
Он почувствовал себя плохо. Ему захотелось спать. И чем больше он боялся уснуть, тем больше хотел лечь, закрыть глаза и свернуться в клубочек.
"Со всеми удобствами?" - спросил его иронический собеседник.
"Вот сейчас я пойду погулять и осмотрю скалы и геологические обнажения и буду думать о том, как хорошо быть живым", - сказал он.
"О господи! - вскричал собеседник. - Тоже мне Уильям Сароян!"
Все так и будет, подумал он, может быть, один день, может быть, одну ночь, а как насчет следующей ночи и следующей? Сможешь ты бодрствовать все это время, все шесть ночей? Пока не придет спасательный корабль? Хватит у тебя пороху, хватит у тебя силы?
Ответа не было.
Чего ты боишься? Я не знаю. Этих голосов. Этих звуков. Но ведь они не могут повредить тебе, не так ли?
Могут. Когда-нибудь с ними придется столкнуться...
А нужно ли? Возьми себя в руки, старина. Стисни зубы, и вся эта чертовщина сгинет.
Он сидел на жесткой земле и чувствовал себя так, словно плакал навзрыд. Он чувствовал себя так, как если бы жизнь была кончена и он вступал в новый и неизведанный мир. Это было как в теплый, солнечный, но обманчивый день, когда чувствуешь себя хорошо, - в такой день можно или ловить рыбу, или рвать цветы, или целовать женщину, или еще что-нибудь делать. Но что ждет тебя в разгар чудесного дня?
Смерть.
Ну, вряд ли это.
Смерть, настаивал он.
Он лег и закрыл глаза. Он устал от этой путаницы. Отлично подумал он, если ты смерть, приди и забери меня. Я хочу понять, что означает эта дьявольская чепуха.
И смерть пришла.
"Эээээээ", - сказал голос.
"Да, я это понимаю, - сказал Леонард Сейл. - Ну, а что еще?"
"Ааааааах", - произнес голос.
"И это я понимаю", - раздраженно ответил Леонард Сейл. Он похолодел. Его рот искривила дикая гримаса.
"Я - Тилле из Раталара, Убийца Людей!"
"Я - Иорр из Вендилло, Истребитель Неверных!"
"Что это за планета?" - спросил Леонард Сейл, пытаясь побороть страх.
"Когда-то она была могучей", - ответил Тилле из Раталара.
"Когда-то место битв", - ответил Иорр из Вендилло.
"Теперь мертвая", - сказал Тилле.
"Теперь безмолвная", - сказал Иорр.
"Но вот пришел ты", - сказал Тилле.
"Чтобы снова дать нам жизнь", - сказал Иорр.
"Вы умерли, - сказал Леонард Сейл, весь корчащаяся плоть. - Вы ничто, вы просто ветер".
"Мы будем жить с твоей помощью".
"И сражаться благодаря тебе".
"Так вот в чем дело, - подумал Леонард Сейл. - Я должен стать полем боя, так?.. А вы - друзья?"
"Враги!" - закричал Иорр.
"Лютые враги!" - закричал Тилле.
Леонард страдальчески улыбнулся. Ему было очень плохо. "Сколько же вы ждали?" - спросил он.
"А сколько длится время?"
"Десять тысяч лет?"
"Может быть".
"Десять миллионов лет?"
"Возможно".
"Кто вы? - спросил он. - Мысли, духи, призраки?"
"Все это и даже больше".
"Разумы?"
"Вот именно".
"Как вам удалось выжить?"
"Ээээээээ", - пел хор далеко-далеко.
"Ааааааах", - пела другая армия в ожидании битвы.
"Когда-то это была плодородная страна, богатая планета. На ней жили два народа, две сильные нации, а во главе их стояли два сильных человека. Я, Иорр, и он, тот, что зовет себя Тилле. И планета пришла в упадок, и наступило небытие. Народы и армии все слабели и слабели в ходе великой войны, длившейся пять тысяч лет. Мы долго жили и долго любили, пили много, спали много и много сражались. И когда планета умерла, наши тела ссохлись, и только со временем наука помогла нам выжить".
"Выжить, - удивился Леонард Сейл. - Но от вас ничего не осталось".
"Наш разум, глупец, наш разум! Чего стоит тело без разума?"
"А разум без тела? - рассмеялся Леонард Сейл. - Я нашел вас здесь. Признайтесь, это я нашел вас!"
"Точно, - сказал резкий голос. - Одно бесполезно без другого. Но выжить - это и значит выжить, пусть даже бессознательно. С помощью науки, с помощью чуда разум наших народов выжил".
"Только разум - без чувства, без глаз, без ушей, без осязания, обоняния и прочих ощущений?"
"Да, без всего этого. Мы были просто нереальностью, паром. Долгое время. До сегодняшнего дня".
"А теперь появился я", - подумал Леонард Сейл.
"Ты пришел, - сказал голос, - чтобы дать нашему уму физическую оболочку. Дать нам наше желанное тело".
"Ведь я только один", - подумал Сейл.
"И тем не менее ты нам нужен".
"Но я - личность. Я возмущен вашим вторжением"
"Он возмущен нашим вторжением. Ты слышал его, Иорр? Он возмущен!"
"Как будто он имеет право возмущаться!"
"Осторожнее, - предупредил Сейл. - Я моргну глазом, и вы пропадете, призраки! Я пробужусь и сотру вас в порошок!"
"Но когда-нибудь тебе придется снова уснуть! - закричал Иорр. - И когда это произойдет, мы будем здесь, ждать, ждать, ждать. Тебя".
"Чего вы хотите?"
"Плотности. Массы. Снова ощущений".
"Но ведь моего тела не хватает на вас обоих".
"Мы будем сражаться друг с другом".
Раскаленный обруч сдавил его голову. Будто в мозг между двумя полушариями вгоняли гвоздь.
Теперь все стало до ужаса ясным. Страшно, блистательно ясным. Он был их вселенной. Мир его мыслей, его мозг, его череп поделен на два лагеря, один - Иорра, другой - Тилле. Они используют его!
Взвились знамена под рдеющим небом его мозга. В бронзовых щитах блеснуло солнце. Двинулись серые звери и понеслись в сверкающих волнах плюмажей, труб и мечей.
"Эээээээ!" Стремительный натиск.
"Ааааааах!" Рев.
"Наууууу!" Вихрь.
"Мммммммммммммм..."
Десять тысяч человек столкнулись на маленькой невидимой площадке. Десять тысяч человек понеслись по блестящей внутренней поверхности глазного яблока. Десять тысяч копий засвистели между костями его черепа. Выпалили десять тысяч изукрашенных орудий. Десять тысяч голосов запели в его ушах. Теперь его тело было расколото и растянуто, оно тряслось и вертелось, оно визжало и корчилось, черепные кости вот-вот разлетятся на куски. Бормотание, вопли, как будто через равнины разума и континент костного мозга, через лощины вен, по холмам артерий, через реки меланхолии идет армия за армией, одна армия, две армии, мечи сверкают на солнце, скрещиваясь друг с другом, пятьдесят тысяч умов, нуждающихся в нем, использующих его, хватают, скребут, режут. Через миг - страшное столкновение, одна армия на другую, бросок, кровь, грохот, неистовство, смерть, безумство!
Как цимбалы звенят столкнувшиеся армии!
Охваченный бредом, он вскочил на ноги и понесся в пустыню. Он бежал и бежал и не мог остановиться.
Он сел и зарыдал. Он рыдал до тех пор, пока не заболели легкие. Он рыдал безутешно и долго. Слезы сбегали по его щекам и капали на растопыренные дрожащие пальцы. "Боже, боже, помоги мне, о боже, помоги мне", - повторял он.
Все снова было в порядке.
Было четыре часа пополудни. Солнце палило скалы. Через некоторое время он приготовил и съел бисквиты с клубничным джемом. Потом, как в забытьи, стараясь не думать, вытер запачканные руки о рубашку.
По крайней мере, я знаю, с кем имею дело, подумал он. О господи, что за мир! Каким простодушным он кажется на первый взгляд, и какой он чудовищный на самом деле! Хорошо, что никто до сих пор его не посещал. А может, кто-то здесь был? Он покачал головой, полной боли. Им можно только посочувствовать, тем, кто разбился здесь раньше, если только они действительно были. Теплое солнце, крепкие скалы, и никаких признаков враждебности. Прекрасный мир.
До тех пор, пока не закроешь глаза и не забудешься. А потом ночь, и голоса, и безумие, и смерть на неслышных ногах.
"Однако я уже вполне в норме, - сказал он гордо. - Вот посмотри", - и вытянул руку. Подчиненная величайшему усилию воли, она больше не дрожала. "Я тебе покажу, кто здесь правитель, черт возьми! - пригрозил он безвинному небу. - Это я". - И постучал себя в грудь.
Подумать только, что мысль может прожить так долго! Наверно, миллион лет все эти мысли о смерти, смутах, завоеваниях таились в безвредной на первый взгляд, но ядовитой атмосфере планеты и ждали живого человека, чтобы он стал сосудом для проявления их бессмысленной злобы.
Теперь, когда он почувствовал себя лучше, все это казалось, глупостью. Все, что мне нужно, думал он, это продержаться шесть суток без сна. Тогда они не смогут так мучить меня. Когда я бодрствую, я хозяин положения. Я сильнее, чем эти сумасшедшие военачальники с их идиотскими ордами трубачей и носителей мечей и щитов.
"Но выдержу ли я? - усомнился он. - Целых шесть ночей? Не спать? Нет, я не буду спать. У меня есть кофе, и таблетки, и книги, и карты. Но я уже сейчас устал, так устал, - думал он. - Продержусь ли я?"
Ну а если нет... Тогда пистолет всегда под рукой.
Интересно, куда денутся эти дурацкие монархи, если пустить пулю на помост, где они выступают? На помост, который - весь их мир. Нет. Ты, Леонард Сейл, слишком маленький помост. А они слишком мелкие актеры. А что если пустить пулю из-за кулис, разрушив декорации занавес, зрительный зал? Уничтожить помост, всех, кто неосторожно попадется на пути!
Прежде всего снова радировать в Марсопорт. Если найдут возможность прислать спасательный корабль поскорее, может быть, удастся продержаться. Во всяком случае, надо предупредить их, что это за планета; такое невинное с виду место в действительности не что иное, как обиталище кошмаров и дикого бреда.
Минуту он стучал ключом, стиснув зубы. Радио безмолвствовало.
Оно послало призыв о помощи, приняло ответ и потом умолкло навсегда.
"Какая насмешка, - подумал он. - Остается одно - составить план".
Так он и сделал. Он достал свой желтый карандаш и набросал шестидневный план спасения.
"Этой ночью, - писал он, - прочесть еще шесть глав "Войны и мира". В четыре утра выпить горячего черного кофе. В четверть пятого вынуть колоду карт и сыграть десять партий в солитер. Это займет время до половины седьмого, затем еще кофе. В семь послушать первые утренние передачи с Земли, если приемник вообще работает. Работает ли?"
Он проверил работу приемника. Тот молчал.
"Хорошо, - написал он, - от семи до восьми петь все песни, какие знаешь, развлекать самого себя. От восьми до девяти думать об Элен Кинг. Вспомнить Элен. Нет, думать об Элен прямо сейчас".
Он подчеркнул это карандашом.
Остальные дни были расписаны по минутам. Он проверил медицинскую сумку. Там лежало несколько пакетиков с таблетками, которые помогут не спать. Каждый час по одной таблетке все эти шесть суток. Он почувствовал себя вполне уверенным. "Ваше здоровье, Иорр, Тилле!" Он проглотил одну из возбуждающих таблеток и запил ее глотком обжигающего черного кофе.
Итак, одно следовало за другим, был Толстой, был Бальзак, ромовый джин, кофе, таблетки, прогулки, снова Толстой, снова Бальзак, опять ромовый джин, снова солитер. Первый день прошел так же, как второй, а за ним третий.
На четвертый день он тихо лежал в тени скалы, считая до тысячи пятерками, потом десятками, только чтобы загрузить чем-нибудь ум и заставить его бодрствовать. Глаза его так устали, что он вынужден был часто промывать их холодной водой. Читать он не мог, голова разламывалась от боли. Он был так изнурен, что уже не мог и двигаться. Лекарства привели его в состояние оцепенения. Он напоминал бодрствующую восковую фигуру. Глаза его остекленели, язык стал похож на заржавленное острие пики, а пальцы словно обросли мехом и ощетинились иглами.
Он следил за стрелкой часов... Еще секундой меньше, думал он. Две секунды, три секунды, четыре, пять, десять, тридцать секунд. Целая минута. Теперь уже на целый час меньше осталось ждать. О корабль, поспеши же к назначенной цели!
Он тихо засмеялся.
А что случится, если он бросит все и уплывет в сон? Спать, спать, быть может, грезить. Весь мир - помост. Что, если он сдастся в неравной борьбе и падет?
"Ииииииии", - высокий, пронзительный, грозный звук разящего металла.
Он содрогнулся. Язык шевельнулся в сухом, шершавом рту.
Иорр и Тилле снова начнут свои стародавние распри.
Леонард Сейл совсем сойдет с ума.
И победитель овладеет останками этого безумца - трясущимся, хохочущим диким телом - и пошлет его скитаться по лицу планеты на десять, двадцать лет, а сам надменно расположится в нем и будет творить суд, и отправлять на казнь величественным жестом, и навещать души невидимых танцовщиц. А самого Леонарда Сейла, то, что от него останется, отведут в какую-нибудь потаенную пещеру, где он пробудет двадцать безумных лет, кишащий червями и войнами, насилуемый древними диковинными мыслями.
Когда придет спасательный корабль, он не найдет ничего. Сейла спрячет ликующая армия, сидящая в его голове. Спрячет где-нибудь в расщелине, и Сейл станет гнездом, в котором какой-нибудь Иорр будет высиживать свои гнусные планы. Эта мысль едва не убила его.
Двадцать лет безумия. Двадцать лет пыток, двадцать лет, заполненных делами, которые ты не хочешь делать. Двадцать лет бушующих войн, двадцать лет тошноты и дрожи.
Голова его упала на колени. Веки со скрежетом разомкнулись и с легким шумом закрылись. Барабанная перепонка устало хлопнула.
"Спи, спи", - запели слабые голоса.