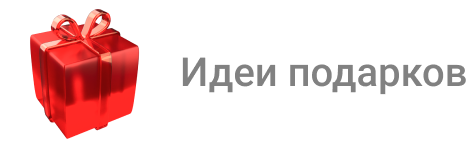«Сколько судеб, молча прожито, сколько книг не написано». (Е. Н.)
Юродивый и нищий,
Прозаик и поэт
За чаем в кухне
Как-то толковали…
Осенний октябрьский день подходил к концу. Небо затянуто было тучами и сумерки наступили быстро. На скособоченных старых столбах зажглись редкие фонари. На паперти городского храма стоял одиноко нищий, зябко ежась в стареньком пиджачишке, с брошюркой в руке. В воздухе пахло сыростью, нищий изрядно продрог и мыслями уже предвкушал тёплый чай и ужин, там, в другом конце города, у своего товарища, такого же бессребреника, как и он, зарабатывавшего на хлеб случайным заработком. Нищий с утра продавал возле храма книжечку со стихами. Он был немолод и был поэтом. В самиздатовской книжке напечатаны были его стихи — сорок лет поэтического труда. Но, как известно, прихожан мирская поэзия не прельщает вовсе; вот если бы он торговал псалмами или же, на худой конец сочинял бы вирши про бога… Но он воспевал в стихах любовь и Природу, — то извечное и великое, непостижимое и прекрасное, что воистину является настоящим богом, и которому человек нашёл простенькую замену в облике чужеродного идола в золочёном окладе. Потому и сегодня книжечку никто не купил. Но милостыню во спасение собственных душ, по случаю праздника, прихожане подавали щедро, и в пакете у нищего набралось много мелочи и конфет.
Была «родительская» — поминали усопших по именам. «Помяни рабу божию Тамару», «помяни Анну…», — подавая милостыню, просила то одна, то другая, спешащая на вечернюю службу богомолка. А какую Анну или Тамару — не ведомо. «Анн и Тамар на свете много, — размышлял поэт. — Не понятно, как можно поминать, вспоминать по имени тех, кого не знал и никогда не видел?» Христиане же о таких вещах не мнят; имена они получают по святцам, и нельзя христианину без имени, ибо сказано в святом писании: «У кого нет имени, тот не войдёт в царство божие».
Когда служба закончилась, из храма толпой повалили верующие. Выходя из дверей, они оборачивались постными лицами к храму и, воздев очи к золочёному кресту на колокольне, троекратно осеняли себя крестным знаменьем, совершая поклоны. И с последним поклоном, будто сбросив с себя невидимые оковы набожности, с каким-то радостным облегчением превращались в простых обывателей, оживлённо лопочущих о мирских делах. Из этой серой толпы прихожан отделилась девушка и быстро подошла к нищему. Она прижимала к груди зелёного цвета ученическую тетрадку. Оглянувшись, она быстро протянула её нищему и сказала вполголоса:
— Там… В общем, там стихи. Вы посмотрите и мне скажите, получилось у меня или нет.
Нищий взял тетрадку и хотел было её раскрыть, но она остановила его:
— Нет, нет. Не здесь. Потом откроете и прочитаете.
И взволнованно теребя в руках концы платочка, продолжала: — Вы уж там сами решите, хорошие они или нет. Ангела вам хранителя, — и с этими словам она повернулась и быстро, не оглядываясь, зашагала прочь.
Спрятав тетрадку и книжку своих стихов в пакет, нищий направился к остановке, откуда ходит автобус в тот дальний район, где живёт приятель. Каждый вечер, когда стемнеет, он едет к приятелю. У того есть квартира, где на кухне можно выпить горячего чаю, а то и поужинать и, согревшись, беседовать. Приятель — бывший актёр и прозаик; и беседы с ним об искусстве, литературе и просто о жизни восполняют недостаток живого умственного общения, которого нет под храмом среди опустившихся нищих и алкашей.
Купив по дороге хлеба, пару бананов и два апельсина, нищий пришёл к товарищу. Тот уже поджидал его и сварил гречневой каши из старых запасов крупы.
За ужином разговор зашёл о поэзии Серебряного века. Поэт с жаром говорил о Валерии Брюсове, творчеством которого восхищался.
Приступили к чаю.
— Да, чуть не забыл, — спохватился поэт и зашелестел пакетом, доставая из него тетрадку, которую ему дала девушка. Он пробежал глазами по аккуратно написанным женской рукой столбцам и протянул тетрадь прозаику. В тетради были такие строки:
Ты всё же уехал, а я осталась,
Но перед тем, как сказать «прощай»,
Я сквозь слёзы тебе прошептала:
Ты только помнить меня обещай.
И далее в том же духе. Прозаик предложил убрать лишние местоимения, предлоги и связки. В результате получилось следующее:
Ты уехал, а я осталась,
Перед кратким «прощай»,
Я сквозь слёзы тебе шептала:
Помнить меня обещай…
— Интересно было бы поговорить с этой девушкой о её стихах, — сказал прозаик, оторвав взгляд от тетрадки. — Может в будущем она станет знаменитою поэтессой.
— Сложно предугадать, — отвечал поэт, аккуратно насыпая ложечкой сахар в чай. — В наше время, когда молитвенник возведён в ранг литературы, а книги классиков сдаются тоннами в макулатуру, она, в лучшем случае, будет стоять, как я, под храмом, по копеечке собирая на издание своих стихов.
Прозаик тем временем поправил и другое четверостишие:
За моим окном плачет дождь,
Капли медленно текут по стеклу.
Больше ты ко мне не придёшь,
Я тебя уже не верну.
И получилось:
За окном плачет дождь,
Его слёзы текут по стеклу.
Ты ко мне не придёшь,
Я тебя никогда не верну…
— Да ты, я гляжу, и сам бы мог писать стихи, — сказал поэт. — Чего не пишешь?
— Ты знаешь, не хочу быть посмешищем, — отвечал прозаик, — вдруг стихи выйдут банальными.
— Значит, быть юродивым, нищим — сие не посмешище? А учиться писать стихи, учиться излагать мысль красиво — тривиальность?
— Да о чём мне писать? — удивился прозаик. — Воспевать нищету да сирость? Или плакаться во стихах? Так ведь излияния личной тоски на бумаге — ещё не есть поэзия, а всего-то банальная пошлость, облечённая в рифму.
— Прославь слогом то, что нельзя изречь по имени!
— Что-то новое. Это как?
— А вот как. В стихах эта девушка не упоминает имя своего любимого, разлуку с которым она омывает слезами дождя. И, быть может, от этого эти простые рифмы волнуют душу.
— Да, ты прав, поэт. Назови она имя парня, и… шелест крыл Пегаса сменил бы стук его копыт о землю.
— Разве есть имена в Природе? — продолжал поэт, будто бы рассуждая с самим собой. — Для нас, людей, все воробушки на один манер, как близняшки. А они друг у друга душу видят. Там различия на другом — на высшем уровне. Потому свою горлицу голубь всегда отыщет среди тысяч других голубок. И лебединая верность — она без клички, без имени.
— Это верно, не как у людей, — согласился прозаик, — нынче Маша, что Глаша, а Глаша, что Саша. Имена людей уровняли их, — всё принижено до стандарта.
— Возьми настоящую любовь: она возникает независимо от того, какое имя у любимого человека. Мы любим прежде душу. А имя нам нравится, как нравилась бы одежда любимого человека. Потому-то имя, что ту одёжку, и поменять несложно. И, как любой наряд, имя тленно; потому, кто привязан к имени, ветшает и погибает вместе с ним.
— А христиане верят в обратное.
— Христианство — силки для легковерных; оно лишает главного — данной от рождения людям духовности.
— Жаль людей, попавших в его тенета, — сказал с сожаленьем прозаик.
— А мне их не жаль, — возразил поэт. — Не жаль потому, что в церковь попадают охочие вечной жизни. Они неспособны ценить даже эту жизнь, но им вдобавок нужна и вечная.
— Это точно. Людей с нехристианскими именами они презирают. Выходит, как если бы людей презирать за одежду.
— Из-за придуманных кем-то имён бранятся, — с досадой произнёс поэт. — А всё потому, что утратили свою уникальную безымянность!
— А как же ты сделаешь себе имя в литературе? — вдруг задал каверзный вопрос прозаик. — Без имени нет ни писателя, ни поэта.
— Настоящему писателю или поэту нет нужды в громком имени.
— Это как же? А Пушкин? А Лермонтов?.. Кто бы сегодня знал их без их имён?
— Видишь ли, — неспешно отвечал поэт, осторожно отпивая из чашечки дымящийся чай. — Имя нужно читателю, а не творцу.
Он поставил свою чашку на блюдце и продолжал:
— Разве знаем мы имя бога, сотворившего всё и вся? Он велик не по имени, а своим творением. Точно так и с творцами в искусстве: мы не знаем по имени автора «Илиады», и кто написал «Одиссею», чьё стило начертало нам «Слово о полку Игореве».[1] И Шекспир не писал «Трагическую историю о Гамлете, принце Датском»; «Ромео и Джульетта» ведь тоже не им написана.[2] Но попробуй изъять эти ложные имена из умов читателей? Они взбунтуются! Ничего не выйдет!
— Кому нужна ложь?
— Известное дело, кому, — отвечал поэт. — Тем, кто питается ложью, сделав её своим призванием. Да возьми хотя б «Тихий Дон». Агасферово племя же захлебнётся кровавой пеной, доказывая, что «Тихий Дон» написал малограмотный вор Мишка Шолохов, а не великий казачий писатель Фёдор Крюков.[3] Одно боль в душе вызывает — что славу наших классиков бездарные плагиаторы себе присваивают.
— Они ж и обвинят тебя самого во лжи, заявив, что нищий вздумал переписать историю, — засмеялся прозаик.
— Да мне то что? Пусть Шекспир или кто ещё. Имя — ноль. Да и автору всё равно — он давно стал вечностью. Вот ты себе псевдоним подбирал ни день, ни два, — для себя ли? Нет. Для читателей. Чтобы им было проще тебя отыскивать средь других псевдоимён. Так и в жизни: имя — такая ж ложь. Важно то, что останется — результаты творчества. Но и в том, что останется, безымянность выше имени. Вот у Блока Прекрасная Дама, — она без имени! В том величие и чистота её божественной женственности. А назови он её, скажем, Дусей — и возвышенность вмиг улетучилась.
— Однако, Дульсинея Тобосская вдохновляла ведь Дона Кихота на подвиги? — возразил прозаик.
— Ну так… и Дездемона вдохновила Отелло на своеобразный «подвиг», как и Кармен своего Хосе, — ответил ему поэт. — Но образы этих женщин не больше своих имён и их времени. А вот Прекрасная Дама Блока возвышается до Вселенной и пребывает в вечности.
— Выходит… — задумчиво произнёс прозаик, — постигая свою безымянность, обретаешь в душе Вселенную и вливаешься в вечность.
— Несомненно. Величие в безымянности! Вот это и есть духовность.
Поэт помолчал.
— Однако, брат, мне пора, — поднимаясь со стула, сказал он. — Благодарствую за хлеб-соль!
— Ещё ведь не поздно… — попытался удержать гостя хозяин. Ему о многом хотелось поговорить с приятелем.
— Завтра рано вставать. С утра в церкви служба, потом крестины — имянаречение. Навесить младенцу имя для церковников архиважно, — и, улыбаясь, поэт добавил: — Милостыню хорошую будут давать.