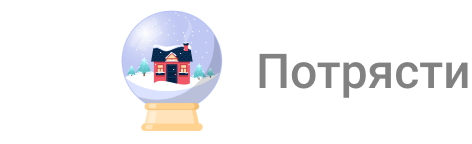— Эпилептик? — вздохнула заведующая. — Ну и куда мне его? Опять антиконвульсанты заказывать…
Новый дом Вите понравился ещё меньше прежнего. Двухэтажный деревянный барак угрожающе склонялся к новому постояльцу; осматривал окнами-глазницами, хмурился сурово рассохшимися наличниками. Витя прочел по слогам текст на казённой сине-белой табличке – «Дом-интернат для детей-инвалидов с нарушениями умственного развития». Вите стало страшно – захотелось убежать прочь, но ворота за спиной по-стариковски проскрипели «тут-тут-тут», закрываясь, давая понять, что Витино место теперь «тут».
Раньше у Вити был свой дом — маленький, но уютный и светлый. Воспитывала Витю бабушка. Воспитывала до тех пор, пока он однажды не обнаружил её голую и неподвижную, лежащей в ванне. Клубы пара застилали глаза, вода стекала на пол через края. Витя закрутил кран и, поборов смущение, потрогал бабушку за плечо.
— Бабуль?
Та плавно, будто нехотя, сползла под воду. На пальцах остались куски разваренной серой кожи. Мальчик просидел запертый с трупом три дня – пока соседка не забила тревогу. Дверь вскрыли, Витю забрали. Была милиция, комната с Чипполино на стене, вопросы: «Мальчик, у тебя точно больше никого нет?» Потом его определили в детдом. Там Витя на прогулке увидел дохлую кошку – в провалившемся боку меж рёбер вились личинки. Этот кишащий мир распада и разложения захватил всё внимание, погрузил в себя, поглотил. Он весь нырнул туда, в это месиво, где, к чему ни притронься – к пальцам липнет бесцветная плоть, а под ней ощутишь роение миллионов маленьких существ.
Потом были обследования, врачи, анализы, потом другой интернат, потом ещё один, похуже. Никто не хотел связываться с «пароксизмальным эпилептическим расстройством». Никто, кроме «дебилки», как за глаза называли этот новый интернат. И Вите, который уже умел читать, немного писать и даже начало таблицы умножения, было обидно до слёз.
В столовой он познакомился с Надей по кличке Сквозняк – некрасивой девочкой, похожей на акулу-молот. Лишённая напрочь резцов, она откусывала от сосиски задними, коренными зубами и с присвистом рассказывала:
— Это Вад, он главный. Не Вадик, а Вад. За Вадика он тебя в унитаже утопит.
Вад был крупный, пухлый парень гораздо старше прочих. Недостаток ума он компенсировал патологической злобой. Мелкими глазками, липнущими к переносице, он смотрел на мир как на муху, которой собирался оторвать крылышки.
Его шакалов-подхалимов – дебиловатых близнецов – все звали только по фамилии, одной на двоих – Щипки. Были они мелкие, неприятные, вертлявые, как и сама их фамилия. Мозг у них, видно, был тоже один на двоих: как только кто-то из братьев начинал говорить, другой тут же умолкал; когда один ел, второй просто сидел с открытым ртом. Они будто жили по очереди.
— Лучше ш ними не швяживаться.
— Почему?
— Они по ночам... гадошти делают.
Надя всё перечисляла клички, фамилии, имена: дистрофичная, почти прозрачная Ира-Скелетик, Миша-Экскаватор с тонкими рахитичными ножками и мощными как клешни ручищами; безымянный, кривой от полиомиелита Болтун, гидроцефал с печальным взглядом – Лёша-Башка. Имён и кличек было так много, что Витя запутался и перестал их запоминать.
— А ты? Почему «Сквозняк»?
— Дурак столь? – с присвистом отвечала Надя. — Видис, жубов нет?
Надя беззастенчиво распахнула рот, демонстрируя голые десна.
— Молочные выпали? Так отрастут.
— Не отраштут. Мамкин хахаль поштаралша.
— Но… за что?
— Шкажал, я ему вешь хер ражодрала. Я это нарочно — думала, шкорее отпуштит. А он полотенше на кулак намотал и… Штала я Надька-Шквожняк.
От этой короткой истории по Витиной шее тоже мазнуло сквозняком – от осознания, что где-то в одном мире с ним существуют такие вот дяди Толи.
После ужина был положен час просмотра телевизора. Воспитательница, чьё имя-отчество Витя не запомнил, вытолкала всех из столовой и отправила в сторону большой залы в конце коридора.
Колясочников «припарковали» вдоль стены, остальные расселись на стульях. Воспитательница подошла к телевизору, включила по-старинке, без пульта. Кнопки каналов были выжжены зажигалкой – все, кроме одной.
Показывали канал “Культура”. Пожилые тётки в цветастых блузках монотонно болтали о каком-то Шнитке и его культурном “складе”. Было скучно. Поёрзав, Витя всё же решился – встал со стула, подошёл к воспитательнице, бледной бесформенной тетке в огромных роговых очках, похожей на полярную сову; спросил:
— Извините, а можно, пожалуйста, переключить на другой канал?
— Нельзя. На других каналах сплошные...
Она зевнула, не сочтя нужным договорить – блеснули тускло золотые коронки. Витя, несолоно хлебавши, вернулся на место.
Вскоре из коридора раздались крики. Послышалось что-то вроде “...насрано!” и воспитательница грузно зашагала прочь. Тогда Витя решился – бросился к телевизору, в надежде, что успеет переключить на канал с какими-нибудь мультиками, и воспитательница ничего не заметит.
Вдруг из ниоткуда возникло препятствие — нога в грязном кроссовке, и Витя, теряя равновесие, влетел прямо в угол тумбочки, на которой стоял телевизор. Нос взорвался мокрым, красным, потекло на рубашку. За спиной захихикали – наверняка Щипки, – и тут же послышалось торопливое шарканье.
— Это ещё что такое? Ну?
Воспитательница грубо развернула его, приподняла как куклу, встряхнула.
— Кто это сделал? Ну? Кто?
Витя машинально повернул голову в “зал”, ещё не успел ни на ком сфокусироваться, а воспитательница уже вынесла приговор.
— Вадик! А ну-ка встал и вышел отсюда! Спать ложишься без телевизора, понял?
С громкими скрипом со стула поднялся Вад. Оглядел мутным взором Витю – как на таракана посмотрел, зашипел:
— Урою, стукач ссаный!
— Поговори мне ещё! — огрызнулась воспитательница.
После просмотра телевизора всех повели умываться, а после скомандовали «отбой». Из-за проблем с отоплением мальчики и девочки делили одну, общую на всех спальню. Вите досталась кровать у самой двери, так что можно было слышать, как раздражающе звенит настроечная таблица — телевизор никто так и не выключил.
Свет в коридоре погас, и спальня зажила своей жизнью. Размытые тени шастали друг к другу в кровати, шелестели одеяла, кто-то хныкал, кто-то натужно вздыхал. Вдруг на лицо Вите опустилось нечто удушливое, колючее. Его стащили на пол, принялись пинать поочередно с двух сторон, а, когда Витя перестал кататься по полу и лег смирно, принимая кару, его куда-то потащили, приподняли и швырнули. Витя подумал, что оказался вновь на своей кровати, но рядом заворочалось тяжелое, влажное, оно липло к нему мягкими боками, душило гнилостной и сортирной вонью.
— Тили-тили-тесто – жених и невеста! — по очереди напевали Щипки. — Слышь, стукач, теперь Алёна-Говёна твоя невеста!
Алёной-Говёной называли тучную парализованную девочку. От неё постоянно воняло гнилью из-за пролежней, а ещё мочой и дерьмом – она не умела проситься в туалет. Брезгливо подрагивая всем телом, Витя кое-как выбрался из продавленной панцирной сетки. Алёна проводила его тоскливым, понимающим взглядом.
— Иди, жених, подмывайся! — хохотали мальчишки.
Витя, глотая слезы, уж было шагнул в коридор, когда Надя схватила его за локоть.
— Не ходи. Шплошные... — взмолилась она.
Остальные застыли в ожидании – что будет делать новичок.
— Ну и плевать! — едва не плача, ответил Витя, вырвался из слабой девчачьей хватки.
Не хватало ещё прослыть трусом помимо стукача. Обидно было до слез – он ведь никого не заложил.
Толкнув дверь в коридор, Витя застыл. Было тихо. Лишь в телевизорной что-то тихо шуршало. Синий свет, лившийся с экрана, будто тек по полу, желая добраться до Вити. Один шаг – и экран телевизора попал в поле зрения. Ноги вдруг сделались ватными, по языку разлилась батареечная кислота: на экране копошились бесчисленные опарыши. Перетекая друг в друга, они оглушительно шуршали, шипели хищно, монотонно, и голова зудела резонансом. С той стороны экрана, сквозь занавесь белого шума на него внимательно смотрели, словно приценялись к мясу на рынке. Мелкие волоски на коже стали дыбом, во рту защекотало, засвербело в носу от телестатики. Телевизор звал к себе, манил, и Витя машинально, против своей воли, делал шаг за шагом, – так кролик ползет к удаву задними лапками, изо всех сил сопротивляясь передними. Только Витя – не кролик, и сопротивляться ему нечем. Он чувствовал: стоит приблизиться, коснуться экрана – и опарыши выплеснутся вовне, облепят его, проникнут внутрь и начнут пожирать. Утром его найдут, коснутся рукой – и к пальцам прилипнет уже его кожа.
Он едва не коснулся экрана, но белый шум, вдруг вскипевший внутри, хлынул горлом, вспенился на губах. Болезненно вывернулся язык, одеревенели конечности. Витя канул в эпилептический омут.
Очнулся он под утро — в своей кровати, наспех вымытый, видимо, нянечкой. Зубы ныли — похоже, их расцепляли ложкой. Вчерашнее происшествие можно было принять за сон, если б он то и дело не ловил на себе настороженные и удивленные взгляды интернатовцев. За спиной шипело и шелестело:
— Сплошные-сплошные-сплошные…
Стоило, однако, спросить про этих «сплошных», как интернатовцы отворачивались, уходили, а Вад и вовсе грубо ткнул его затылком в стену, процедил:
— Те чё, больше всех надо, стукач?
К Наде Сквозняк приехала мама, вырвавшаяся из наркоклиники, так что до вечера у неё ничего не разузнать. Воспитательницы отмахивались, мол, не надоедай своими глупостями. Витя попробовал пристать к Бубырю — так называли интернатовского дворника. Бывший воспитанник интерната, с жутким винного цвета родимым пятном во все лицо, он всё время истекал слюнями и пах спиртным. Зато, как рассказывала Надя, Бубырь добрый, у него в каморке можно, если что, спрятаться от Щипков с их «гадостями», иногда он даже угощал карамельками.
— Дядя Бубырь!
— Ау! — отозвался тот, далеко выпятив нижнюю губу; слюна так и ползла по подбородку.
— А что такое «сплошные»?
— Сплошные-сплошные-сплошные-сплошные… — зашуршал Бубырь, как заведенный, и во все стороны летели слюни.
— Ну, когда на телевизоре все чёрно-белое и шипит.
— А, белый шум! Это, парень, реликтовое излучение самой Вселенной! Это вот, когда ни тебя, ни меня, ни Земли, ни Бога, ничего вообще не было — было вот это вот излучение, самое древнее. А телевизоры умеют его улавливать. Эхо Большого Взрыва, когда из ничто появилось что-то.
От этой мысли Вите сделалось жутко. Неизвестное «что-то» звучало зловеще. Выходит, там, в телевизоре обитают какие-то древние, «реликтовые» — он хорошо запомнил это слово — твари, которые обосновались на всех каналах, кроме «Культуры»? И всё это происходит здесь, в приюте… У мальчика задрожали колени.
— Дальний рокот надломленной пустоты, парень, из которого родилось само Бытие! — расчувствовался Бубырь. — Так вот задумываешься и осознаешь — до чего ж мы все-таки ничтожная мелюзга. Корм для червей...
Витю трясло всё сильнее, и уже не от Бубыревских откровений. Он видел в прелой листве, которую собирал дворник, дохлую ворону, раздавленную в блин. Блестящие умные глазки давно потухли, а в надорванном брюхе копошился белый шум — пожирал то, что принадлежит ему по праву. Пустота забирала своё. И Витю тоже заберет — в этом его убеждали тихие, жадные шорохи в вороньем трупе. То были голоса сплошных, и они звали Витю с собой. И собственная плоть готова была предать его, подчиняясь зову; предательство мерцало в дрожащих членах, в паутине, облепившей мозг, в мертвенно отяжелевшем языке.
До самого ужина Витя мыкался сам не свой. Кое-как поковырял гречневую кашу, съел половину котлеты, компот забрал Вад. Когда настал «телечас», на ватных ногах шёл почти с ужасом в жуткий зал, к невыносимому экрану…
В телевизорной уже ждала Надя Сквозняк. Сделав большие глаза, она показала на место рядом с собой. Стоило воспитательнице захрапеть под нудную театральную постановку, как Надя потянула Витю в коридор. Завернув за угол, зашипела:
— Засем ты туда посёл?
— Куда?
— К телевижору! Дурак! Они тебя не оштавят! — свистела Надя.
— Кто? — с замиранием сердца спросил Витя, хотя уже знал ответ.
— Идём!
Надя цепко ухватила Витю за локоть и потащила по скрипучим коридорам интерната. Завернув за угол, они оказались у обшарпанной двери без ручки. Надя откуда-то извлекла карандаш, и вогнала шестигранный кончик прямо в отверстие.
— Помоги!
Вместе они не без труда открыли. В пустой пыльной комнате не было абсолютно ничего, кроме одинокой кровати, и на ней, скрючившись, лежало существо — мальчик или девочка, не разберешь. Комнату наполняло невыносимое шипение, словно из расстроенного радиоприемника.
— Наклониш. Шлушай.
И Витя наклонился к самому лицу существа — к его глазам, залепленным пластырем крест-накрест, к широко распахнутому рту, словно подавившемуся воплем. Из широченной чёрной дыры рта струилось шипение; в нем крошилась сухая листва, оползали песок и щебень с краёв раскопанной могилы; угрожающе шипели змеи, извиваясь кольцами. Витя отшатнулся и с немым вопросом ошалело уставился на девочку.
— Это Коля. Он не боялша, и переклюсил канал. Вот, что они ш ним жделали.
— А что у него с глазами?
— Они жабрали их. — Надя замялась, будто не зная, как лучше подать неприятную информацию, — Вить. Он шпал на твоей кровати.
В эти последние минуты до отбоя, пока интернатовцы вяло и неумело елозили во рту зубными щетками, Витя прорабатывал план. Если сплошные придут за ним этой ночью, то их надо опередить. «Лучшая защита — это нападение!» — учила его бабушка премудростям великих полководцев. Значит, нужно поразить врага раньше, чем тот нанесёт первый удар.
В постели Витя ворочался от нетерпения, предвкушая грядущую победу. Зал с телевизором на втором этаже, и окна в нем всегда открыты на ночь – для проветривания . Вряд ли старенький «Панасоник» переживет полёт с такой высоты. Главное – не взглянуть на экран. А то опять случится припадок или, того хуже, можно стать, как тот Коля, и вечно лежать в одиночке, транслируя реликтовое эхо. Решение пришло быстро: обмотав голову наволочкой в три слоя, можно обезопасить себя от кишащей в телевизоре мерзости. Одна беда — идти придется вслепую.
Больше всего в ту ночь Витя боялся, что Вад с Щипками обрушатся на него с новой карой, но те в этот раз переключились на Надю. Втроем подошли к её постели, прижали к матрасу одеялом, навалились сверху. Послышалась пара глухих ударов.
— Вот так, сука! Не кобенься! Мы же знаем, тебе нравится! — по очереди шептали близнецы.
Наконец, Надя перестала дергаться, донеслись чмокающие звуки; Вад смешно закряхтел.
Витя разрывался между страхом и благородством: хотелось спасти Надю от… чего бы они там ни делали, но тогда гнев Вада и Щипков обрушится на него, и черт знает, удастся ли ему добраться до телевизора. А что если они и вовсе выбросят его в коридор без спасительной наволочки – на съедение сплошным? Страх победил.
«В конце концов, — думал Витя, — я же их всех тоже спасаю!»
Накинув на голову наволочку, как Человек-Паук — маску, Витя перетянул её узлом вокруг шеи. Стало трудно дышать. Но телевизионное сияние всё ещё проникало через ткань и выбитую на ней синюю печать «Б.Х.Т». Осторожно шагая вперед, Витя слышал, как нетерпеливо шипят на экране сплошные — будто раскаленная сковородка с маслом, куда вот-вот швырнут Витин рассудок. Под ногами оглушительно скрипели половицы. Интересно, что бы сказала нянечка, встретив его в таком виде?
Шаг за шагом, медленно и осторожно он приближался к цели, обходил, как на минном поле, стулья, расставленные посреди зала, миновал разлапистую тень фикуса. Экран всё рос в размерах, захватывая почти всё поле зрения. Кругом были одни сплошные; их прикосновения кололи электростатикой, их шепот шуршал мушиными крыльями в ушах, их злоба клубилась в воздухе, электризуя его. Когда, казалось, Витя был уже почти у цели, в грудь ударило что-то твердое, тонкое, и он с грохотом рухнул в какую-то мясорубку из палок и колес. Что-то зацепило наволочку и сдернуло с головы; то была инвалидная коляска, которую кто-то оставил перед телевизором.
Лишившись защиты, Витя обреченно вперился в экран. Электронные опарыши играли в свою чехарду, готовые продырявить Витин мозг, как яблоко и выжрать его изнутри, подобно термитам, чтобы от легчайшего прикосновения, Витина голова осыпалась трухой, демонстрируя выеденную, как яйцо, скорлупу черепа. На языке снова плескалась кислятина, позвоночник готовился выгнуться в анатомически-невозможном пируэте, знаменуя начало приступа; за спиной уже слышались голоса — кто-то бежал на шум.
Все-таки Витя нашел в себе силы для последнего рывка. Взревев, как раненый зверь, он вцепился в края телевизора изо всех своих детских сил. Лицо почти касалось мерзости, кишащей на экране. В какой-то момент стекло, отделявшее его от космических, реликтовых опарышей, исчезло, их наглые тельца уже щекотали лицо. От дикого напряжения он захрипел, застонал – и все было кончено. «Панасоник» перевалил через подоконник и полетел на асфальт. Следом скользнул черный провод – будто хвост черта, изгоняемого обратно в преисподнюю; он выдрал из стены хлипкую розетку и мстительно чиркнул по щеке. Погибель ждала сплошных на беспощадном асфальте — под треск пластика и хлопок лопнувшего кинескопа.
Слушая ругань нянечек и рев заведующей, Витя блаженно улыбался — враг был повержен.
Почти три дня Витю держали в индивидуальном боксе, вроде того, в котором обитал Коля. Из развлечений — изорванные и изрисованные книги, найденные им здесь же. Чихвостили его последними словами. Но Витя был доволен — пускай, его подвиг не признали, но это он победил чудовище, он спас интернат от жутких реликтовых тварей, что живут в пустоте.
Выпустили Витю под вечер, на ужин. С аппетитом он смолотил целую миску сладкого риса с изюмом, и даже попросил добавки.
А, выйдя из столовой, он вновь почувствовал, как все тело превращается в судорожно дрожащий кисель. Из телевизорной слышались голоса Бубыря и заведующей:
— Боря, ну ты же немой, а не глухой! Говорю ведь – к другой розетке!
— Бу-у-бырь! — отвечал дворник, надувая пузырь из слюней.
— И не вздумай снова кнопки жечь, понял?
Широкий экран новенького, с наклейкой, телевизора в режиме настройки беззастенчиво выпускал в человеческий мир сплошных. Они лились с шипением неостановимым потоком — темной водицей с ошметками гнили, голодными опарышами, мушиным роем, ненасытной пустотой. Ноги подкосились. Витя потерял равновесие и упал бы, если бы не чья-то мягкая, податливая рука, поймавшая его под локоть. Обернувшись, он пробулькал сквозь подступающую к губам пену:
— Бабуля?
Огромная тень, пахнущая старостью, водопроводным кипятком и вареным мясом накрыла мальчика с головой, в глазах потемнело. Тело Вити выгибалось, будто через него пропускали разряды электричества, конечности выкручивались под невероятными углами; казалось, мальчик сейчас переломает себе все кости. Изо рта с шипением, как из огнетушителя, комками лезла пена. Первой подбежала заведующая.
— Дайте ему в зубы что-то, наконец, пока язык не откусил! Говорили мне, не связываться…
Алюминиевая ложка с хрустом втиснулась меж зубов.
— Сильно приложился. Тут сотряс как минимум. В скорую звоните!
— Сотряс? Куда там! Тут ЧМТ закрытая. Овощем остаться может.
— Ты-то откуда знаешь, каркуша?
— А ты с мое на скоряке поработай! Видишь, глаза на свет не реаг… А что у него с глазами? Что это?
— Никогда такого не видела. Похоже на…
— Что у него с глазами? Что с глазами?
***
Автор - Герман Шендеров