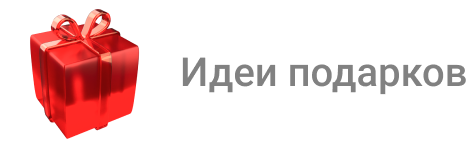7-8 лет. Часть 5.
Учись разговаривать с дознавателем смолоду
Мать и её мать требовали, чтобы я "смотрела в глаза", потому что иное означает, что я вру при разговоре. Мать матери вопрошала: "Ты почему в лицо не смотришь, почему глаза в сторону отводишь?" -- "Значит, она что-то скрывает." Мать разглядывала моё лицо сколь угодно долго, с помощью восклицаний "на меня смотри!", говорила, что у меня широкие поры, и периодически выдавливала "чёрные точки", при этом мне запрещала "трогать лицо". Нельзя было "тянуть руки к лицу", постоянно звучали одёргивания "убери руки от лица". Иногда у меня обветривались щёки и кисти рук, тогда мать заставляла мазаться кремом, что я терпеть не могла -- мне было как физически неприятно, так и морально -- я не хотела мазаться кремами и "ухаживать за кожей", как неженка, чтобы быть "красавицей" (и не хочу). В целом, мне никогда не хотелось быть "красавицей", наоборот, я хотела (и хочу) иметь внешность человека, который не боится мороза, жары, ветра, любых неблагоприятных факторов внешней среды, с загорелым лицом с прочной кожей -- только такую внешность я считала и считаю для себя красивой и достойной.
Я часто обкусывала сухие корочки на губах, и мать устраивала крики, когда видела выступившую кровь, угрожая, что у меня разовьётся рак нижней губы. К губам было отдельное внимание -- их постоянно оценивали на цвет, и если цвет казался слишком "тёмным", мать или её мать трогала своими губами мой лоб, подозревая повышенную температуру, иногда заставляя её измерять, или "дыхнуть" на предмет "запаха ацетона изо рта". Меня ужасно раздражали эти манипуляции, особенно: "А ну посмотри на меня! Почему губы такие красные? Опять их кусала? У тебя что, температура? Опять кофту не надела, снова лечить придётся?" Если температура признавалась повышенной, то мать начинала бегать по комнатам и говорить в пространство: "Ну всё, опять началось... Всё, понеслось... Я ей говорииила, надевай кофту, надевай! А она ж не слушает, ей же на меня всё равно... Вот и доходилась... Я тебя лечить не буду!!!" За "слишком красные губы" и "горячий лоб" можно было заполучить кратковременный "домашний арест", ведь больному полагалось сидеть дома.
Вот такие вышли щи -- хоть простуду полощи
В случае настоящей простуды меня заставляли постоянно полоскать горло, растворами настоек то ромашки, то шалфея, то эвкалипта, то коры дуба, то соли с йодом. Помню, что значительного облегчения это не приносило. В целом, та часть простуды, которая вызывала болезненные ощущения в конце носовых ходов на переходе их в ротовую полость, была самая отвратительная, и она не снималась никакими полосканиями горла. Но промывать нос, чтобы облегчить эти ощущения, я научилась только благодаря увлечению дедушки уринотерапией. Уже после пары-тройки промываний носа из-за действия раствора солей становилось намного легче. Во взрослом возрасте я стала успешно применять этот метод с использованием раствора поваренной соли и/или фурацилина. Оказалось, что никакие травы не оказывают настолько успешного воздействия, как фурацилин, и вместо ежечасных мучений с полосканиями горла можно было применять реже и короче по продолжительности курса раствор фурацилина в горло и фурацилина+NaCl -- через нос.
Меня заставляли есть горячие щи, которые были ещё более отвратительными на вкус, чем обычно, "чтобы сопли разжижались и выходили". Вместо чая при болезни мне давали или кисло-пресно-горький отвар из клюквы/смородины, который мать называла "морс" (до сих пор шарахаюсь от этого слова), или из облепихи с мёдом (к слову "облепиха" питаю не сильное отвращение только потому, что её выращивал сам дедушка на даче, в отличие от мёда). Я честно выполняла все назначения и не отказывалась даже от самых неприятных процедур, чтобы как можно быстрее избавить мать от необходимости "ухаживать за мной", пока я болею, а также как можно быстрее начать выходить на улицу, т.к. при появлении симптомов простуды меня окончательно запирали в 4 стенах. Лет с 5 мать мазала мне горло раствором люголя, намотав на палец пропитанный им бинт, и потом гордилась перед всеми, что я терплю, молчу и не закрываю рот. Терпение медицинских манипуляций поощрялось, таким образом, у меня была к ним тройная мотивация. Во взрослом возрасте я выяснила, что прогулка на свежем воздухе ускоряет выздоровление, а не наоборот; а приём мороженого (любой прохладной пищи) небольшими порциями, вместо горячих и гадских на вкус щей, также облегчает ощущения от простуды.
В случае сильно повышенной температуры меня обмазывали водкой или уксусом, и самым противным в этом действе было находиться раздетой перед матерью и/или её матерью. Надо сказать, что любая моя простуда обсуждалась матерью с её матерью, мать отчитывалась в проведённых манипуляциях и о моём самочувствии своей матери, равно так же, как и во всех других вопросах.
Удаление раздражающего фактора -- лучшее лекарство
Однажды обмазывание водкой не помогло, и моя высокая температура не падала. Мать позвонила в скорую, где ей рекомендовали парацетамол, мне таки выдали жаропонижающее, но его оказалось недостаточно. Меня держали раздетой, при свете в ночное время, для обозрения матери. Она бегала ко мне каждые эн минут из соседней комнаты, где по обыкновению был включен телевизор. Телевизор в квартире работал всегда, если мать была дома, и выключался он только в те моменты, когда мать угрожала, что она "уходит навсегда" и бегала собирала вещи в здоровенный старый кожаный чемодан. Прибегая, мать тошнотворно-елейным голосом (как у Настеньки в "Морозко") спрашивала, как у меня дела, в то время как я хотела, чтобы мне выключили свет и дали поспать. Этого не делали, так как мать боялась, что в темноте я умру, о чём они шёпотом переговаривались с экстренно приехавшей её матерью. Они сели около меня, и, глядя на меня, мать матери серьёзным голосом вещала: "Я грешу на ((сквозняк ли, неудачную прогулку))...", а мне больше всего хотелось, чтобы они отошли от меня и дали поспать. Я снова чувствовала, что моё тело как будто принадлежит не мне, а им, и они заботятся о его сохранности, как о некотором вложении средств и усилий, их собственности, тогда как я хочу _сама_ распоряжаться своим телом, и хочу, чтобы эти люди не имели ко мне никакого отношения. Мать говорила: "Я не могу смотреть как ты страдаешь, я бы с удовольствием забрала твои страдания и отстрадала сама" -- эту же фразу она говорила своим подругам, рассказывая, как она "не может смотреть", как я болею. Я отвечала, что не надо у меня ничего забирать, мои ощущения -- это мои ощущения, я их никому не отдам, и вообще я совсем не испытываю неудобств от чисто проявлений болезни. Я просто хотела, чтобы эти люди ушли от меня, желательно навсегда.
Мать и её мать снова звонили в скорую, орали, что моя температура не снижается, чем-то угрожали (мать матери очень любила угрожать, "звонить по инстанциям" и "добиваться своего"), я хотела, чтобы их там послали куда подальше, любой ценой. Когда приехал врач, мать, как обычно, лебезила, используя голос "Настеньки" и рассказывая о своих переживаниях относительно меня, а её мать вставляла своё особо ценное мнение. Врач сказал, что меня надо везти в больницу, и меня стали одевать, в ненавистную шубу. Мать и её мать старательно наряжали меня в шубы на протяжении всего детства вплоть до 13 лет, в то время как я считала этот наряд отвратительным, тяжёлым, неудобным, непрактичным и постыдным -- я хотела носить самое простое пальто, а в идеале -- военный бушлат. Однажды мы с матерью ехали в троллейбусе вместе со срочниками, и мне было невероятно стыдно, что меня видят в шубе, я делала максимально серьёзное лицо и выпрямляла спину, чтобы показать, что я не "принцесса" в шубе-разлетайке, а "солдат".
Мне сказали лечь в машине скорой помощи на носилки, что я тоже сочла невероятно постыдным (так как я вполне чувствовала себя в силах сидеть, особенно при наличии других людей, помимо домашних надзирателей) и неприятным, так как мать и её мать могли легко пялиться на меня не отрываясь и обсуждать меня в третьем лице. В больнице им сообщили, что меня следует госпитализировать, причём без матери, так как "таких взрослых (7 лет) с родителями не кладут". Услышав эту фразу, мой организм организовал выброс "положительного адреналина", я с замиранием сердца ждала, что будет дальше, и молилась Вселенной, чтобы мать со мной не положили ни под каким видом. После краткого разговора матери пришлось согласиться, и когда я поняла, что буду находиться без матери и её матери продолжительное время, больше суток точно, мне резко стало лучше физически. Я была на седьмом небе от счастья, когда мать и её мать покинули приёмный покой, и мечтала, чтобы они никогда больше не вернулись.
Мать и её мать "договорились", чтобы в эту ночь меня положили рядом с дежурными медсёстрами, две очень милые практикантки поставили мне капельницу и сказали, что спать МОЖНО, но нельзя шевелиться. Я подумала, что рай, наверное, выглядит вот так, где всего лишь за недвижение рукой во время сна, который разрешён, с тобой разговаривают нежным голосом очень красивые люди, которые ещё и реально облегчают тебе течение болезни. Днём меня перевели в палату, где помимо меня был взрослый мальчик лет 10, а вскоре привели двух девочек 6-7 лет, одна из которых (Л**а У**на) расплакалась. Я спросила о причине её слёз, она ответила, что скучает без мамы, и в этом моменте я её не поняла, ведь надо радоваться такому счастью. Другая девочка была из детского дома, и я завидовала ей чёрной завистью.
Райская пища
Я продолжала считать, что оказалась в раю, так как у меня была своя кровать, в которой я спала одна; своя тумбочка, которую никто не шмонал (дома мои вещи регулярно переворачивались на предмет "запрещёнки" -- бисера, который мне не покупали, а давали другие дети за подпольное плетение им браслетов; мелочёвки, которую я находила на улице и по 3 раза мыла с хоз. мылом, прежде чем спрятать; возможных мелких подарков), и невероятно вкусная еда: каша и белый хлебушек с маслом на завтрак (удивительно, но местное масло я употребляла почти без отвращения, хоть и не целиком), с чаем с сахаром или сладким кофе-какао; первое-второе на обед, и снова сладкий чай-компот; вечерняя рыба/кусочки мяса с кашей и подливкой и снова сладкий чай. Причём еда каждый день была разная, но всегда вкусная. Я не представляла ранее, что можно каждый день есть такую вкусную еду, и оправдывала это событие тем, что на всех детей централизованно готовит повар, для которого это работа, а дома человеку трудно готовить вкусное на 1-2 человек каждый день (как это делала мать). Поэтому я ещё сильнее завидовала детдомовской девочке, ведь там еду готовят централизованно, а ещё за неё не требуют говорить "спасибо". Я ненавидела говорить "спасибо" после приёма пищи матери, я готова была отказаться от её пищи, и как от невкусной, и чтобы не давить из себя "благодарность". Я не понимала, почему дома нужно говорить спасибо, если это обязанность родителей -- кормить детей (по необходимому минимуму), а если матери это слишком тяжело делать -- так пусть правда сдаст меня в детский дом, тогда ей не придётся "напрягаться" ради меня, а мне -- заставлять себя выражать благодарность матери и её матери неизвестно за что (я всегда была готова есть самую дешёвую еду, или вообще снизить частоту питания дома, принимая "государственную" пищу в школьной столовой по максимуму, даже доедая за кем-либо, лишь бы не быть "обязанной" и "благодарной").
Именно для того, чтобы не быть обязанной и не считать себя "разбалованной", я отказывалась от вкусностей, которые мать периодически предлагала купить мне в магазине местного пищевого комбината. Как я понимаю сейчас, вкусностей хотела она сама, а я была предлогом, в том числе и потому, что мне покупалось не то, что я хочу (я всегда указывала на самую дешёвую выпечку, сравнив ценники, -- пирожное "Сахаринка" или пряник "Мир"), а то, что мать считает нужным/вкусным. Отказываться и выбрать самое дешёвое мне помогал мой выдуманный идеал, к 7 годам имевший уже устоявшуюся внешность и характер.
Это была максимально некрасивая, по общественным меркам, девочка: с рыжими жёсткими волосами, разноцветными глазами, кучей веснушек и при этом с высокогорным загаром и "дублёной всеми ветрами" кожей. Она была максимально худая и угловатая (что означало её сдержанность в еде), при этом невероятно сильная и жилистая, в самой простой, частично самодельной и далеко не новой одежде. У неё не было родителей, зато было много братьев и сестёр, которых она кормила и одевала сама, живя в деревне, при этом училась на отлично, несмотря на парочку отсутствующих пальцев на руке (а может, и не только пальцев), так как она прошла всю Великую Отечественную Войну на передовой линии. Каждый раз, когда мне хотелось попросить себе что-то условно значительное у матери/согласиться на пирожное/проявить трусость, я думала о ней, задавая себе вопрос "А как бы поступила она", и в подавляющем большинстве случаев следовала "её" (идеальному) выбору.
(Как доказательства существования выдуманных идеалов у меня остались рисунки тех лет)
С одной из девочек примерно моих лет в больницу положили её бабушку, активную женщину лет 50. Мать и её мать возмущались, но я радовалась, что ко мне точно не пропустят мать, потому что, в отличие от той девочки, я не плачу, умею себя обслуживать и совсем не скучаю по дому. Другие дети периодически плакали -- например, мальчик, упавший с кровати. Как только его утешили, я громко свалилась между кроватью и тумбочкой после неудачного поворота в кровати, на что бабушка сказала "Ну вот, сейчас и эта плакать будет". Я спокойно вылезла, поправила одежду и снова улеглась на кровать, потому что какое-то жалкое неудобство от проехавшейся по рёбрам одежды, прижатой тумбочкой, было совсем не поводом для позора в виде слёз. Тем более что выкручивание одежды на груди, совершаемое родительницей в моменты скандалов, было куда более неприятным. Я опасалась только наличия следов на рёбрах, которые могут обнаружить мать и её мать, и устроить скандал. Бабушка сказала: "Странно, не плачет".
Бабушка девочки в первый же приём пищи поднесла к каждому ребёнку пакет со сладостями, из которого предлагала взять 1 печенье или 1 конфету. Я очень долго отпиралась, потому что мне запрещались как "лишние" сладости, так и брать еду "у чужих", бабушка удивлялась и практически заставляла меня взять сладость. За время пребывания в больнице я съела 1 печенье и 1 конфету угощения, причём печенье было выбрано, так как я помнила принцип матери, что печенье менее "опасно" как сладость, чем карамелька. Фантики от конфет все дети оставили, и я показывала, как ими надо играть. Мне отдали часть фантиков (я удивилась, что отдающим они не нужны), и потом докладывала матери, что у меня было 6 фантиков. Мать спросила на это: "Надеюсь, это же не ты съела все 6 конфет?" Повторюсь, у меня не было проблем с уровнем сахара в крови.
(Фантики от этих конфет, равно как и все остальные фантики, которые я хранила более 20 лет, уехали к коллекционерам фантиков около 5 лет назад)
Мать и её мать передали мне изюм в баночке от детского питания и куски отварной куриной ноги, в другой баночке, а также отвар шиповника, в который первый раз добавили сахар. Изюм я не ела, куриную ногу заставляла себя есть через силу, так как знала, что она представляет материальную ценность, а скормить её другому ребёнку -- "предательство" по отношению к матери и её матери, т.к. они "тратят свои средства на _свою_ ((вещь)) -- меня, а не на чужих." Также мне передали облепиховое масло с наказом медсестре заливать мне его в нос. По словам матери, оно "обволакивало", а по моим ощущениям это было продолжение домашних пыток "для здоровья", которых в больнице до этого не было. Даже самые болючие уколы делали такие милые и добрые практикантки, что я закусывала подушку, но говорила, что мне не больно, чтобы не пугать/не обижать девочку ненамного старше меня.
Тренинг самоконтроля. Пошаговая инструкция. Без регистрации и смс
Мне передали яблоки, которыми надо было угостить всех сопалатников. К тому моменту мать и её мать успели устроить скандал, чтобы меня переселили на кровать подальше от окна, потому что сочли, что мой отит (в один из дней у меня заболело ухо, о чём я спокойно доложила на обходе, мне закапали борный спирт и замотали голову пелёнкой) появился от открытого окна. В результате перетасовок одного мальчика переселили на 1 ночь на детскую кровать, где было неудобно вытягивать ноги. И бабушка девочки выговаривала мне, что из-за меня мальчик мучается. Она сочла мать моей матери цыганкой по внешности -- мать и её мать приходили к окнам палаты (на 1 этаже) , и я переписывалась с ними записками, прислоняемыми к окну -- и вернула мне яблоко со словами "и яблоко своё забери, неизвестно что вы на него наговорили, цыгане". Мне было обидно, что меня (не мать матери!) подозревают в наговорах, и я плакала, отвернувшись так, чтобы никто этого не видел, не создавая звуков, чему успешно научилась дома.
Успешно -- потому что мать практиковала сначала заставить меня плакать, начиная придирки по незначительному поводу, а потом говорить, что она не пойдёт по заранее нацеленному маршруту (на концерт / на урок музыки / к своей матери / на школьный праздник), потому что я плАчу/у меня зарёванное лицо и ей со мной позорно идти/я испортила ей всё настроение/ей стыдно за меня, выходить перед соседями, которые слышали мои крики. Поэтому в начале длительного пребывания с матерью (на новой квартире) я безостановочно плакала во время скандалов, а затем научилась заставлять себя прекращать слёзы. Мать ставила условие: "Ещё один звук от тебя услышу, и ты никуда не пойдёшь/я убью себя." Я старалась резко прекратить плач, но не сразу научилась подавлять/скрывать рефлекторный прерывистый вдох через несколько секунд после прекращения. Поэтому иногда мать его замечала со словами: "Всё, звук был, пеняй на себя" и начинала бегать по трамваеобразной квартире, тряся пальцем и выражая свои мысли в пространство, говоря про меня в третьем лице: "Она хочет, чтобы я себя убила, она специально это делает, она специально меня доводит, она хочет, чтобы меня удар шарахнул, она этого добивается, я ей устрою"
Отработанная схема была такая:
program Событие
begin
1. За 2-3 часа до планируемого события мать: i) начинала придирки к волосам, найденным на полу/брызгам зубной пасты на зеркале или к моему "безделью" (не поиграла на пианино, не выполнила/плохо выполнила/не полностью выполнила домашнюю работу) или ii) уже играла в молчанку после предыдущего конфликта.
2. Затем:
if i) then
не принимала моих оправданий либо попыток исправить ситуацию;
else
ii) не реагировала на мои вопросы, как мне одеваться на событие, отбивалась, если я прикасалась к ней, уставившись в телевизор.
endif
while я демонстрирую заинтересованность в событии do
3. Я начинала плакать и умолять пойти со мной на событие. Мать:
if i) then
говорила елейным голосом, что я "сама отменила себе событие";
else
ii) фыркала, бегала по квартире, топая ногами, демонстрируя, что сейчас уйдёт без меня "в никуда" (фраза из более ранних угроз) или совершит суицид.
4. Я плакала, обещала выполнять всё, что она потребует, хваталась за неё.
5. Мать говорила, что уже поздно, или что чем больше я плачу и ору, тем хуже делаю.
6. Я подавляла слёзы и говорила, что уже не плачу, максимально спокойным голосом.
7. Мать говорила, что всё равно никуда не пойдёт.
enddo
8. Я: сначала не могла сдерживать слёзы, и мать говорила: "Ну вот всё, опять понеслась", после чего начиналась итерация пп. 3-7; потом научилась сдерживать не только слёзы, но и выражение эмоций на лице, что было условием выхода из цикла пп. 3-7.
9. Мать начинала бешено собираться, попутно обвиняя меня в заплаканной внешности / что она не успела помыть голову перед событием и будет вынуждена сидеть в шапке / ей будет стыдно за опоздание из-за меня. Иногда бешеные сборы прерывались нахождением дырки на моём носке или иного дефекта во внешности / констатацией значительного опоздания / необходимостью врать о причине опоздания / иным поводом, и мать говорила "всё, теперь точно никуда не пойду".
10. Выйдя на улицу, она могла в любой момент дёрнуть за руку, остановиться и сказать "я щас развернусь и пойду обратно, если ты не начнёшь идти нормально" ("правильной походкой") или поставить иное подобное условие. Вариант событий: "Я тебя туда доведу, а забирать будет некому" -- намёк на "уезд в никуда", суицид, написание отказа от меня в пользу детского дома.
11. По прибытии на место мать говорила елейным голосом, что или "транспорта долго не было" / "поздно вышли" / "Alphastrange долго собиралась" / "Alphastrange знааает, почему мы опоздали, ведь так, Alphastrange?" (с угрожающе-елейной улыбкой).
end
Эта программа выполнялась раз за разом, пока я не научилась:
-- демонстрировать отсутствие ценности события для себя;
-- уверенно отвечать: "Я схожу и без тебя, меня точно пустят, а если спросят, почему без родителей, я отвечу, что ты снова решила поорать и выложу, по какому поводу."
Из больницы меня выписали за пару дней до Нового Года. Я была огорчена, уходя с родительницей. Я спросила мать: "Почему мы не едим дома такую вкусную еду? И больным полагается давать разнообразную еду, на всех плакатах в поликлинике и больнице это написано", на что она ответила: "Я что, буду тебе несколько блюд на день готовить?" Я сообщила, что в больнице мне было хорошо, и я не хочу уходить. Мать сказала: "Ну тогда сейчас вернём тебя" -- понятное дело, вернули меня обратно только к матери и её матери.
Продолжение следует.