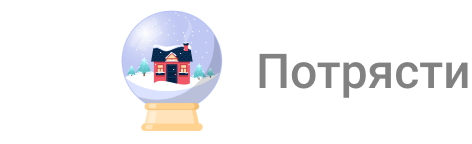Хорошо быть цинником, а лучше всего - не существовать вовсе. Мы боимся смерти исключительно из-за своей примитивной трусости перед тьмой и неизвестностью. Будь мы разумнее, мы бы стремились к смерти - той блаженной пустоте, которой мы наслаждались до того, как начали существовать.
Я отношусь ко всем одинаково. Абсолютно. Дедушка, бабушка, девушка, мужчина, подросток. Не важно, сколько им лет - для меня нет возрастных ограничений. Не важно, несет ли от них дурным запахом или они пахнут ив-сент лореном. Не важно, спят ли они или бодрствуют, в своем уме или безумны. Мне плевать. Их всех связывает одна беда:чума XXI века...просто у каждого она протекает по-разному. Кто-то сгорает очень быстро, с кем-то мне доводиться видится по несколько раз на протяжении месяцев. И есть те, к которым я привязываюсь сильнее положенного. Те, с кем я спешу увидеться в следующий раз. Но, естественно, чаще второй встречи не бывает. Или...лучше бы не было.
Я открываю тяжелые железные двери, перекидываюсь парочкой слов с гардеробщицей, переодеваюсь. Поднимаюсь на второй этаж, захожу на пост и изучаю список пациентов. После я беру журнал движения, пытаясь увидеть знакомые инициалы под колонками: "выписан", "умер" или быть может "прибыл". Но моя память слаба на имена и фамилии, в этом месте они не откладываются в моей памяти почему-то. Хотя бывают исключения. Но, в основном, все они для меня безымянные, но не безликие.
В прошлый раз мне показалось, что я начинаю выгорать. Тогда я спешил встретиться с одним из так называемых друзей. В предыдущее дежурство я настроил телевизор в его палате, перекинулся парочкой словечек, а также менял с медсестрой пакет на его колостоме. В этот - я укрывал его одеялом, менял ему майку, помогал принять удобную позу в кровати, ибо сам этого он уже сделать не смог. Я начал проклинать эту болезнь, наблюдая, как человек, который неделю назад чуть ли не бегал по палате в свои 68, а на этой-прилагает неимоверные усилия, чтобы заговорить. В момент нашей первой встречи, язык не повернулся бы назвать этого пациента дедушкой, уж больно он был энергичен и не походил внешне на свои года. В момент второй встречи, неделю спустя, его ноги уже не могли удержать весь его тела, более того, ему не хватало сил даже присесть и посидеть на койке. Слетелись родственники, видимо подозревали, что глава их семьи уже на выходе. Сын удерживал его в сидячем положении и растирал спину, жена охала и ахала, поговаривая, что не стоило отдавать его нам. Изредка мне приходиться объяснять родственникам больных, что вины хосписа мало в том, что
их отец, мать, сын или дочь быстро сгорают. Несмотря на наркотики, которые им выписывают. У нас лежат такие, кто месяцами на морфии может оставаться на ногах или те, кто не успевает даже принять таблетку, как его уже пакуют в мешок.
Из палаты напротив раздается женский голос. Молодая пациентка подзывает меня к себе и просит усадить ее на кровати. Без проблем. Вытягиваю из-под кровати подставку для ног, внешне походящую на двухэтажную скамейку, где этажи находятся не параллельно друг другу, а последовательно. Опускаю на эту подставку сначала одну ногу пациентки, потом-другую. После, я обхватываю ее двумя руками за талию. Стараюсь сжимать ее не крепко, ибо любое лишнее прикосновение может отдаться ей болью в любой части тела, поднимаю ее с лежачего положения и усаживаю на кровать. Убеждаюсь, что ей удобно и, услышав положительный ответ, улыбаюсь. Она улыбается мне в ответ и благодарит. Лицо ее изрезано морщинами, скулы обтянуты кожей, болезнь знатно ее потрепала и, возможно, еще потреплет, но все же улыбка остается искренней и милой. 38 лет. Рак молочной железы. Это я уже потом узнал из анамнеза. Она мне рассказала, что в свое время была волонтером и помогала детям с дцп, сейчас волонтеры помогают ей. Вот она, ирония жизни. Застрахован ли я от такого? Надеюсь! При выходе из палаты, я пропустил мысль, что в следующий раз нужно будет обратить внимание на ее бюст. Чисто ради интереса посмотреть, вырезали ли ей грудь. Идиот.
В соседней палате находится дедушка. Глядя на его длинные, густые брови, возникает мысль, что из-за их длины он ничего не может видеть. Уж больно низко они свесились параллельно его глазам. Он рассказывает мне про книги, которые успел прочесть за мое отсуствие и про священников, которые ездят за границу отдыхать или отстраивающих себе огромные коттеджи. Я сижу напротив, терпеливо слушаю и стараюсь превратить наш разговор в диалог. Зараза осела в его бронхах. Я бросаю взгляд на стол за которым он сидит: рядом с книжкой на столе лежит ингалятор. Надеюсь, он ему помогает.
В следующей палате я передвигаюсь тихо, словно мышь, чтобы не разбудить коротко стриженную женщину, которая спит под церковные песни. Уже потом она мне рассказала, что запись длится целых восемь часов и очень помогает ей принять душевный покой. Если это облегчает ее страдания, почему бы и нет? Неизвестно что мы будем делать на смертельном одре. Ведь не бывает атеистов в окопе под огнем. На тумбочке, что рядом с ее кроватью, я навожу порядок, стараясь не свалить иконы, что находятся на ней. В какой-то момент я начинаю чувствовать движение в кармане моей накидки. Рука по инерции дергается к нему и нащупывает шоколадку. - спасибо! -нет, это вам спасибо!
Я помню, как в этой палате немного раньше лежала одна из тех немногих, чье имя мне удалось запомнить-Тамара. 34 года, рак поджелудочной. Куча метастазов. В кости, лимфоузлы и ближайшие органы. Кажется, еще жить и жить, но судьба распорядилась иначе. Я помню, как она сидела на коленях неподвижно, склонив голову в передвижной горшок, а я стоял рядом и пытался разглядеть, дышит ли она или нет. Я помню кучу родственников, которые хлопотали возле нее с утра до вечера. Я помню, как они просились остаться у нас ночевать. Я помню наш разговор с медсестрой, мы предполагали, что Тамара еще поживет, несмотря на множественные метастазы. Делали ставку на сильное сердце. Я помню, как я пришел через три дня, а Тамары уже нет.
Место Тамары занял не старый мужчина, который пять лет своей жизни провел в местах не столько отдаленных. Я не знал за что. Но в хосписе он отказывался обращаться за помощью к медсестрам. По каким-то своим личным принципам и соображениям. Поэтому к нему в палату старались отправлять только меня. Он лежал одновременно с еще одним заключенным, отсидевшим, в свое время десять лет за убийство. Тот больше походил на арестанта:тело исписано наколками, в разговорах проскакивал блатной жаргон. Все называл меня братишкой и просился разрешить ему выйти на улицу. Сомневаюсь, что ему хватило бы сил даже подняться и сесть на кровать. Они заехали к нам одновременно друг с другом, лежали в разных палатах и ушли с разницей в 20 минут. Вот такая ирония, в натуре.