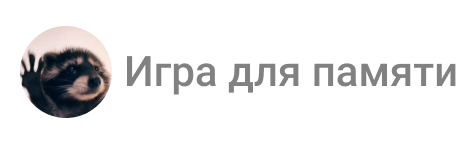Нынешняя историческая эпоха интересна как раз тем, что информационные процессы дают ответы на слишком многие вопросы, чтобы считать это случайностью. Наверное, это и есть главный признак того “усталого капитализма”, превратившего политику в нескончаемый процесс разделения “подлинного” и “неподлинного” “настоящего” — процесс формирования некоей виртуальной реальности, способной довольно далеко отступать от реальности, от того, что мы видим за окном. Технологические возможности современного информационного общества и вправду позволяют поддерживать виртуальную реальность даже низкого качества и уровня проработанности (как, например, истории про вездесущих Петрова и Боширова) довольно долго, — достаточно для того, чтобы решать текущие политические задачи, а среднесрочные издержки сейчас, кажется, мало кого интересуют. В глубине души все понимают, что этот мир ненадолго, как бы “на полчаса”, а действовать нужно “здесь и сейчас”. И осознаваемая краткосрочность современного мира и есть изначальная причина того, что информационное общество стало играть столь большое значение в определении долгосрочных тенденций развития.
Но в этих играх в “виртуальную реальность” есть некая “фигура умолчания”. Дело не только в том, что кто-то эту виртуальную реальность создаёт. Главное — эту виртуальную реальность кто-то потребляет и находит в этом определённое социальное удовлетворение.
Часы и циферблат
Трансформация современных информационных платформ в мире цифровых коммуникаций сама по себе вещь интересная, хотя бы потому, что она отражает не только информационное общество как таковое, но и нашу в него вовлечённость.
Телевизор — как был, так и остался часовой стрелкой. Беда в том, что, будучи по своей глубинной сути средством пропаганды, он показывает не настроение общества, а настроения власти и элиты в отношении общества. “Зрелищ”, причём всё более содержательно упрощённых, хочет не общество. Это элита считает, что погружаться в пучину становящегося все более убогим шоу-бизнеса — это сейчас “самое оно” для нашего общества.
Интернет — да, это классическая минутная стрелка. Он объединил в себе и прежние информационные агентства, и — отчасти — радио, и новостное телевидение. Ну, крутится и крутится. Причём сама по себе, совершенно не сверяясь с часовой стрелкой и, кажется, не оказывая на неё никакого существенного влияния. Поэтому Интернет всегда побеждает телевизор — хотя бы потому, что двигается всегда быстрее — но никогда не сможет его победить.
Социальные сети — это постоянно прокручиваемый калейдоскоп налипающих друг на друга сюжетов… Да, это секундная стрелка, движущаяся с удвоенным темпом, поглощающая наше время, силы, идеи. Это “чёрная дыра”, кажется, созданная для того, чтобы максимум из наших мыслей не остались людям. Социальные сети — не дневники. Их никто не найдёт, никто не издаст, никто не прочтёт. Это не письма, найденные на чердаке старой дачи, открывающие нам другой мир. Это не фотографии с фронта, рассказывающие, как сражались, умирали и побеждали наши предки. Это вообще “ничто”. Одно большое ничто, — вход в мир вечного сегодня, где иногда бывает “вчера”, но почти никогда — “завтра”. Хотя, это выглядит сильно ближе к тому, что Мартин Хайдеггер именовал “вот-бытие” и противопоставлял бытию историческому. Социальные сети это противопоставление оформили, превратили в форматы жизни, доступные каждому вне зависимости от социального и образовательного статуса. Депривация социальности стала достоянием всех социальных групп, за исключением тех немногих, “кто понимает”. Но они опять же отделены от мира разрушения социальности форматами коммуникаций.
Мы никогда не задумывались о том, что наш новый мир был миром социальной сегрегации, но проявляющейся не в раздельных туалетах для различных расовых или социальных групп, а в доступности форматов коммуникаций? И что пандемический год настолько выявил этом механизм сегрегации, что сделал его социально унизительным, а значит, — и невозможным в долгосрочной перспективе. Что разделение мира на тех, кому будет доступен Лувр как реальный музей и Лувр как набор картинок в компьютере рано или поздно превратится в разделение на тех, кому доступен хлеб с запахом хлеба, хлеб с запахом ароматизаторов, похожих на натуральные, и хлеб вообще без запаха. И происходить это разделение будет не по линии “третьего” и “четвертого” мира”, а среди той общности, что раньше называлась “золотым миллиардом”.
Телеграм с этой точки зрения интересен. Это, вероятно, подлинный символ сегодняшнего времени. Это уже не просто социальная сеть, не просто секундная стрелка, отсчитывающая время по фоткам котиков и фотографиям еды из ресторанов, где авторы фоток никогда не были. Это какой-то коммуникационный счётчик Гейгера, бешено выстукивающая какой-то ритм. А какой — уже неважно, поскольку смысл этого ритма в том, чтобы читатель поскорее забыл, что было за секунду “до”. Телеграм — это плотность информационного потока, выведенная за грань здравого смысла, исключающая возможность осмысления. Это тот формат, когда “охват” и “объём” коммуникаций окончательно похоронили под собой задачу осмысления. Телеграм, впрочем, как Твиттер, это прямая ставка на мгновенную, вернее, мгновенно эмоциональную реакцию, а, как следствие — на неосмысленное, но действие.
Информационное общество как инструмент десоциализации человека
Информационное общество, конечно, благо. Хотя бы потому, что изначально оно было призвано облегчить многие сложные, но рутинные процессы, а также дать возможность человеку ощутить единство мира, пользоваться этим единством. Но был нюанс. Если посмотреть на то, о чём мечтали и что писали блистательные мыслители 1970-х и начала 1980-х в части информационного общества, то мы с огромным удивлением отметим для себя, что они мыслили в парадигме “творца”, фактически, переводя на язык технологий, мысль Юрия Алексеевича Гагарина о том, что наш мир, наша Земля, если присмотреться, очень маленькая по масштабам Космоса вокруг нас, не говоря уже о Космосе внутри нас. И уж точно они не мыслили информационное общество как инструмент обслуживания потребителя, что “квалифицированного”, что не очень. Они мыслили в терминах разумного освоения этого “внешнего” и “внутреннего” пространства, упорядочивания его за счёт информационных технологий.
Если совсем упростить: идея информационного общества в постиндустриальном изводе оказалась прямо противоположна концепции сервисности информационного общества при индустриализме. Она состояла в том, чтобы из человека модерна, отягощённого национальными стереотипами, идеологиями, социальными границами, создать человека постмодерна. Этот человек, да, будет преимущественно космополитичен (и эту важную дилемму постмодерна — социальный космополитизм против лояльности государству — решить не смогли, на всякий случай, постепенно переходя к наёмным армиям), да, утратит социальные связи, включая и связи семьи, традиции, религиозность, но будет включен в важнейшие социальные процессы, созидая мир практического постмодерна, формируя новые социальные институты, вероятно (но об этом в начале предпочитали помалкивать), создавая новые традиции, ритуалы и даже язык, — размывающий грань между письменной и устной речью англобуквенный суржик.
Жизнь, но ещё не История, едко посмеялась над энтузиастами информационного общества, предупреждая, впрочем, и сегодняшних турбо-цифровизаторов и “пионэров” искусственного интеллекта, столь же, если не больше, безгранично верящих в свою способность преодолеть природу человека и созданного им общества. У этих, по сравнению со всеми их канувшими в Лету предшественниками, разве только презрения к обычному человеку стало больше.
По мере учащения ритма коммуникаций они всё больше и больше погружают человека в себя. Не человек погружается в коммуникации, сохраняя хоть какую-то свободу действий, а мир коммуникаций, обволакивая человека, создавая вокруг него вроде бы комфортную среду (ведь человек подбирает себе те форматы и те коммуникационные “круги”, что для него комфортны, правда? или же всё-таки человеку ненавязчиво подбирают, подсказывают, что для него комфортно?), не выпускает человека из этого “кокона” порой до смерти в реальную жизнь, где всё может оказаться “совсэм нэ так”? Тем более, что информационный темп сейчас таков, что человек просто не способен его осознавать и воспринимать. И для того, чтобы стать способным управлять информационным пространством вокруг себя, должен стать немного Джонни-Мнемоником из фильма-предтечи “Матрицы”, о чём с присущей ему непосредственностью заявил провозвестник “давосского консенсуса” Клаус Шваб. Или остаться той манипулируемой массой, так осуждавшейся, когда мы боролись с тоталитарными проявлениями социализма и коммунизма, и так понадобившейся “хозяевам консенсуса”, когда постиндустриальный капитализм стал испытывать очевидные сложности. И за которую будет думать вездесущий “искусственный интеллект”, как мы прекрасно понимаем, — просто инструмент в руках вполне понятных имущественных даже не классов, а групп. И совсем не искусственных.
А мы понимаем, что это и есть первый шаг к разделению человечества на различные социальные подвиды — по принципу механизма обработки получаемой информации, что в дальнейшем вполне может быть трансформировано и в некие биологические особенности? Пока не так страшно, как об этом рассказывают учёный Михаил Ковальчук и режиссёр Никита Михалков, но всё же примерно в этом направлении. И лишь страх перед неведомым, да отсутствие революционных технологий тормозит процесс. Хотя в массовой культуре эти образы “двух человечеств” уже неоднократно обкатывались. Армия клонов в “Звёздных войнах”, — разве не про это?
Без божества, без осмысленья...
Социальные сети были неким прообразом, “бета-версией” той системы, способной стать идеальным инструментом окончательной десоциализации людей, которую предполагал внедрить (причём, к началу 2020-х уже и не боялся об этом говорить открыто) — тот самый информационно-инвестиционный, когнитивный капитализм. И эта бета-версия опять же давала почти хайдеггеровскую картину мира. Информационная открытость — от бесконечных фоток еды в социальных сетях до жалоб на “бывших” — не будучи сама по себе форматом социальной жизни, стала внутренней, не осмысленной, но трансформированной в действие потребностью человека. Но она же превратилась в свою противоположность. В инструмент изъятия человека из Истории. История — есть осмысление, скрытое познание и трансформация в социальное действие. Здесь же — немедленная трансляция любого действия в систему социальных коммуникаций, без элемента познания и осмысления, ставших функционально ненужным.
А и правда — зачем оно, познание? Зачем тратить и без того сжавшееся время на этот кажущийся совершенно излишним компонент, если послезавтра будет примерно то же, что и вчера, но только с некими новыми гаджетами? И что, собственно, мы собираемся познавать? Ведь мир Вечного Сегодня, по большому счёту, не то, чтобы освобождает нас от такой необходимости, но помещает её в пирамиде потребностей в графу “причуды”.
Но что такое “циферблат” в новую историческую эпоху? Ведь без него все эти стрелки — суть отражение исторической не то, чтобы бессмыслицы, но несоотносимости процессов, явлений и людей, как будто набранных из разных по масштабу конструкторов “лего”. Эти события существуют как бы сами по себе, лишь изредка выстраиваясь в некие цепочки, не всегда, кстати, корректные, а, зачастую, просто выдуманные. Противоречивость современного мира — не проблема. Мир всегда противоречив. Его системная нецелостность, несоразмерность инструментов задачам развития, когда на “феррари” условно ездят выкидывать мусор, а старенький уазик-буханка колесит по площадке терраформирования — вот настоящая проблема и человека, и мира.
Средний класс как рудимент и атавизм
Главным пользователем сетевого информационного общества должен был стать “средний класс”. Это никогда не скрывалось. Цифровые технологии вообще мыслились как индикатор, наверное, всё же не статуса, но социальной перспективности той или иной социальной группы, того или иного конкретного человека. Имеет он к ним доступ — входит в перспективную социальную страту, не имеет — остается в социальной маргиналии. Способен овладевать гаджетами и предлагаемыми ими технологиями — достоин места в постиндустриальном социальном пространстве, нет…. Ну а как ты, если у тебя нет “мобильного банка”, жить будешь в новом мире, правда? Вспомним, как всего 15 лет назад мы всем миром вставали на борьбу с грядущим “цифровым неравенством”, отсутствием у стран и сегментов общества доступа к цифровым технологиям, широкополосному интернету и “вот этому всему”, как сейчас принято говорить. Это казалось инструментом непреодолимой социальной и цивилизационной сегрегации.
Теперь не так… Признаком социальной перспективности и премиальности потребления является способность к доступу не к цифровым, а к классическим социальным атрибутам и инструментам. К классическому образованию, к очным концертам и спектаклям, а не трансляциям залов без зрителей. К настоящим музеям, а не их голограммам. К напечатанным книгам, а не их электронным репликам. Но, чтобы иметь возможность наслаждаться шелестом страниц, нужно, ведь, как минимум, иметь место, где эти книги хранить. Этот социальный кульбит говорит не только о том, как изменились приоритеты за время, составляющее всего-то половину жизни одного поколения. Это говорит ещё и о том, как непрочны социальные модели постмодерна, книги о торжестве которых вышли совсем недавно, как калейдоскопически быстро меняются цивилизационные ориентиры, ранее державшиеся десятилетиями и века. Как суетен постмодерн. И как беззащитны люди, поверившие, что они и есть его, постмодерна, гегемон.
Когда мы говорим о постепенной смерти “среднего класса”, мы говорим правду, но не всю. Средний класс умирает во всём мире не по злому умыслу автократов, убоявшихся его тяги к демократии, тем более что тяга эта, скорее, миф. Вот тяга к автономности от государства и других социальных групп — не миф, но это про другое. Средний класс умирает потому, что для него не осталось ни социального, ни тем более социально-экономического пространства. Он не нужен для модели, в которой главным интегрирующим фактором стало цифровизированное информационное общество — великий уравнитель социальной вовлечённости. Попытки же поддерживать мерцающий огонёк жизни среднего класса искусственно — через социальный, по сути, ценз доступности дешёвого кредита, как на Западе, или через административное перераспределение общественного благосостояния в пользу “креативных слоев”, как в Азии, или через игнорирование невыполнения средним классом своих социальных функций, как в России, создают эффект “лягушки без головы”. То есть клиент как бы жив и даже ножками на акциях протеста дёргает, но социально-экономического толка от него — никакого. Нет для него в нынешнем формате ни места, ни пространства. У нас, в России, этот процесс просто более очевиден и откровенен: когда предприниматели ничего не предпринимают и только клянчат у государства вспоможения. Когда учёные пишут умные статьи не для того, чтобы что-то открыть и раскрыть, а чтобы получить искомые наукометрические очки. Когда креативщики за государственный счёт креативят против государства и ненавидят общество, их породившее.
Мы никогда не задумывались над тем, что означает понятие “сетевой деятель”? Ведь это — представитель того самого прекариата, о котором много и довольно уничижительно говорят, просто набравший много лайков. Не более того. Такой же, как и другие, безработный, только “его все знают”. Он просто занимает более высокое место, но не в социальной иерархии, а в иерархии информационного общества, становящемся хаотически изменяющимся мерилом прогресса. Но может, средний класс и есть тот неочевидный циферблат, демонстрирующий нам смену исторических эпох?
Не верите? Приведём цитату одного из крупнейших идеологов сегрегационной глобализации, собственно введшего в научно-политический оборот термин “прекариат”, Гая Стэндинга:
…В отличие от пролетариата он [прекариат — Д.Е.] не имеет никаких отношений общественного договора, обеспечивающего гарантии труда в обмен на субординацию и определённую лояльность, — неписанное правило, лежащее в основе социального государства.
Собственно, вот куда и должен был прийти — и пришёл уже на Западе — квалифицированный потребитель.
Но ведь информационное общество и создаваемая им новая социальность априори лежат вне общественного договора. Хотя бы потому, что эта сфера регулируется преимущественно не государством, а корпорациями. Вообще не очень понятно, насколько в информационном обществе в принципе могут существовать права человека.
Средний класс стал социально-экономически необоснованной группой, причём с высоким базовым уровнем потребления и с претензиями на то, чтобы играть некую политическую роль, быть то ли “четвёртой властью”, то ли “лидерами общественного мнения”, то ли “совестью нации”. Иными словами — кем-то более значимым, чем “просто человек”, но только там, куда дотягиваются “щупальца” интегрированных цифровых коммуникаций. А на практике “средний класс” становится — в том или ином формате, от советской интеллигенции до постиндустриального прекариата — форматом утилизации социально-экономически лишних людей в относительно демократическом формате. От советской интеллигенции, впрочем, прекариат существенно отличается, и это — фундаментальное отличие, раскрывающее разницу и исторических эпох, и подходов. Прекариат — управляемо и сознательно десоциализируется. Советская власть управляемо, а в чём-то и насильственно интеллигенцию пыталась, напротив, социализировать, чтобы занять её свободное время, понимая, что совмещение свободного времени буйных головушек вредно для устойчивости политического режима. В ход шло всё — от шестисотковых дач с тёщами-кулачихами до партсобраний и “нагрузок” от общества “Знание”. Современный капитализм — капитализм секундной стрелки без циферблата — лишён понимания “магии времени”, и это обещает много интересных поворотов в судьбе и глобализации, и актуальной версии капитализма.
Современный средний класс можно назвать одновременно рудиментом и атавизмом. Рудиментом расширяющегося постиндустриализма, атавизмом социокультурного постмодерна. Но ещё и зеркалом стагнации современного информационного общества, его отрыва от экономики и социальной сферы. Не кажется ли нам, что в развитии абсолютно доминирующей сейчас городской культуры (а она есть одновременно господствующая модель социальности), мы вступаем в эпоху легализации безумия, о чём, кстати, многие западные исследователи и мыслители предупреждали, обращая внимание на то, что всё начинается с безумия архитектурной среды, — воплощённого в камне постмодерна? Мы разве не замечали, что важнейшим элементом постмодернистской архитектуры, да и дизайна пространства (в том числе и личного пространства человека, его дома, квартиры) была определённо ощущаемая “неуютность”, что ли. Всё было направлено на то, чтобы человек, ощущая некомфортность пребывания в этом пространстве — неудобно сидеть на стуле модного дизайнера до хождения кругами вокруг гранитных надолбов в новомодном парке со скульптурами из ржавого железа — переформатировал бы самого себя. Подстраивал бы себя под это пространство, а не перестраивал его под себя, как было веками и тысячелетиями. Переформатировал бы сперва до утраты социальных свойств, а затем, — и биологических, на что нам намекает биохакинг.
И завершающая “вишенка на торте”: мы разве не замечаем, что любимый формат социокультурной активности того, что осталось от среднего класса, — перформанс, эта помесь “карнавала”, — представления масок, надетых ради изменения социального статуса, и ярмарочного балагана, — отрады городских низов? И в перформансе всё меньше утончённости, язвительности и намёков карнавала, но всё больше грубоватого хохота и грязи загаженной ярмарочной площади с неизменными Петрушками и пирожками с требухой. Такая вот у нас новая культура урбанизма, такая у нас доминирующая социальность: оторванная от экономики и в силу этого беременная не только архаикой, но антисистемностью. Одна большая цифровизированная Хитровка получилась, если говорить совсем просто.
“Связь времён” как новая социальность
О том, что “распалась связь времён”, говорят веками. Но никогда ещё это не было столь очевидно и ощутимо, как в эпоху кризиса глобализации. За глобализацией скрывался глобальный постмодерн, скрывавший за заковыристыми идеями как раз это самое желание разорвать “связь времён”. Не об этом ли — о том, что традиция есть один из главных сдерживающих факторов прогресса и развития демократии — писал в период, когда можно было быть ещё достаточно откровенным, и идеолог “сетевой глобализации” Энтони Гидденс в своей тоненькой, но много шуму наделавшей книге “Ускользающий мир”? Правда, Гидденс тогда достаточно скупо говорил о том, что он понимает под термином “прогресс”, но теперь-то мы это вполне понимаем.
В чём пресловутая историческая соразмерность текущих событий? Как они отмеряют течение исторического времени? И отмеряют ли в принципе? Все эти вопросы отметены постмодерном, как несущественные. Ибо не капитализм, а постмодерн был тем самым концом истории и социальной эволюции человека, о чём восторженно писал малоизвестный философ и по совместительству среднего уровня клерк в Госдепартаменте США Фрэнсис Фукуяма. Мы никогда не задумывались о том, что постмодерн времён полной американоцентричности был, прежде всего, эпохой клерков. Клерков, работавших клерками, политологами, философами, инженерами, пиарщиками, дизайнерами, бизнесменами, олигархами… Но по сути остававшихся теми же самыми клерками, искренне считавшими, что от движения бумаг на их столах, от соблюдения scopusовских правил оформления научных работ, от пережевывания в социологии идей 1980-х, а в инженерном деле — 1970-х (тех же рождённых в тоталитарном якобы Советском Союзе “облачных вычислений” и хранения информации) развивается мир.
Будущее стало бесконечно (ну, так казалось, во всяком случае) улучшаемым прошлым, каждый раз пожирающим себя, как в фантастических рассказах западных писателей о людях, каждое утро просыпавшихся с совершенно кристально чистой головой. А потом оказалось, что они не люди, а андроиды, используемые, чтобы тестировать рекламу. В этих условиях “связь времён” становится не просто пустоватой абстракцией, но бессмыслицей: связь чего с чем? До вопроса, зачем оцифрованному человеку-функции связь с историей, традициями, да и просто — такими же, как он, дело уже не дойдёт.
История постмодерна — это история суеты, под шелест которой остановился мир. История действительно угасала, и в этом Фрэнсис Фукуяма был прав. Но угасала лишь в умах тех, кто сам считал себя историей. Постмодерн оказался незначительной эпохой в истории человечества, когда социальная ритуальность окончательно победила социальный смысл, выхолостила его, превратила в рудимент и атавизм эпох “железа и крови”, заменив бесконечными разговорами клерков в различных “институтах”.
Мы видели суету, но не понимаем масштаба процессов, утратив чувство исторического времени.
Да, наверное, в этом и есть суть меритократии, когда бюргер живёт сегодняшним днём, юнкер — сегодняшним и немного вчерашним, вспоминая о славном прошлом, пролетарий, как правило, завтрашним, думая о том, как заработать на хлеб, а над всем этим восседает меритократия, в прошлом блиставшая уверенными лицами, а ныне — всё больше анонимная, думая о том, как вести страну к новым победам, а свой карман — к новым деньгам.
Иногда кажется, что смысл используемых нами каналов коммуникаций и заключается в том, чтобы не просто “распалась связь времён”, но чтобы произошёл отрыв информационной картины от реальности. Просто через перемещение пользовательской информационной картины в пространство с другими законами для времени. И тогда виртуальную реальность можно будет конструировать до бесконечности, причём она будет для каждого своя.
Но в чём суть этой самой “связи времён”, которую нужно восстановить, чтобы не быть поглощённым чёрной дырой информационного общества? Не скрывается ли за этим просто связь с определённым пространством, всегда историчным, всегда социальным и всегда зависящим от людей, готовых его осваивать и трансформировать? Трагедия информационного общества в сегодняшнем виде не в том, что оно подменило собой социальность, сделало социализацию заложником способности человека осваивать технологии. Трагедия информационного общества в том, что оно из надпространственного инструмента стало постпространственным, а затем — и анти-пространственным.
Но это не означает, что пространственный мир исчез. Он просто притаился. И не только в Африке или на Ближнем Востоке. Пространственный мир притаился везде, даже в Европе, где внешне постмодерн победил полностью и окончательно, как в Советском Союзе к принятию брежневской Конституции 1977 года. Ибо нет ничего более нестабильного, чем стабильное движение минутной стрелки, не говоря уже о секундной. А часовая стрелка, не задумываясь, отрезает от жизни поколений не годы, а целые исторические эпохи, как отрезало от жизни наших отцов и матерей эпоху в 1985, а они даже не заметили. Просто мы думаем, что новый мир будет для всех одинаковым, как постмодерн и когнитивный капитализм. И ищем у себя признаки тех процессов, что расцветают в ранее благополучной Европе и вечно куда-то спешащей Америке. Но нет, новый мир для каждой страны и региона будет свой. И страхи, и риски этого нового мира также будут для каждого свои.
Так что вопрос, насколько страшен будет лик неомодерна, столкнувшегося с пугающей архаикой, становится далеко не праздным. И образ “комиссара в пыльном шлеме” — не самый плохой вариант; “солдатский император”, как это называлось в античности, может оказаться куда более печальной историей. Но нарастающе антисистемную, регрессивную архаику и рудименты постмодерна в информационном изводе может победить только то, что будет ещё более страшным и жестоким, чем эти две тупиковые парадигмы развития. Задумаемся над этим и насладимся последними минутами тишины, когда участвовать в карнавале постмодерна, быстро прошедшим путь от социальной необременительности к утяжелению бесконечными, невнятными и нелогичными ограничениями политкорректности и “культуры отмены”, уже не нужно. Но барабаны социальной мобилизации звучат пока еле слышно.
Остается самый главный вопрос — а кто они, люди нового пространственного мира и в чём его особенности с точки зрения “поведения масс”, если говорить языком прежних марксистов, или “взаимодействия больших систем”, если использовать современную терминологию, где их взять в нынешнем мире и куда они денут нас, заражённых бациллами постмодерна?
Но об этом — в следующий раз.
Дмитрий Евстафьев специально для Fitzroy Magazine