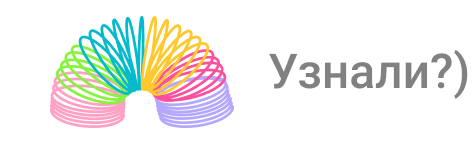Краткое содержание предыдущих частей.
Артем встречает учительницу, к которая являлась его первыми пубертатными эротическими фантазиями, это вызывает череду снов, в которых она столь же прекрасна, как в его детстве. Но за этими снами скрывается какая-то мистическая составляющая, связанная с неким Чеширским - полукотом, получеловеком, который преследует Артема как во снах, так и в реальности. Он уничтожает Чеширского в реальном мире, после чего начинает сомневаться в своей нормальности. На работе у него возникают романтические чувства к сотруднице Ирине, у них происходит свидание, закончившееся неоправданной агрессией. Артем начинает сомневаться в своей нормальности, в то же время у него растет чувство к первой своей любви - Анне Дмитриевне, его школьной учительнице.
Кошки-мышки (мистическая повесть) часть 1
Кошки-мышки (мистическая повесть) часть 2
Кошки-мышки (мистическая повесть) часть 3
Школьный двор, заброшенный парк, чуть поодаль, на болоте давно заросшего котлована, дребезжит мошка, впереди, под фонарем, на лавочке, Анна Дмитриевна. Одна. Нет Чеширского, но и ее будто нет. Она неподвижна, кожа ее блестит лаково, как у пустотелого манекена, глаза стеклянно таращатся в темноту.
Она такая же, как в окончании прошлого сна: изорванная блузка, задранная до черной полоски чулок юбка, оборванная бретелька, чуть соскользнувшая с белой груди чашечка лифчика, темным, багровым полукружьем выступает чуть сосок над нею.
Я опять в темноте, опять я маленький, опять я хочу, вожделею. Медленно, осторожно, крадусь вперед. Теперь я вижу, вижу под ногами листья, вижу тоненькие веточки – наступи и треснет оглушительно. Нет Чеширского, но я не верю, что Они дадут мне так просто дойти до лавки. И я двигаюсь медленно, осторожно, подолгу примеряясь к каждому шагу, осторожно выбирая, куда поставить ногу, куда положить руку, на которой уже пробивается пока еще не смелая, но уже вполне не человеческая – кошачья шерсть. Интересно, чей это сон? Я ли вижу во сне то, как превращаюсь в своего кота, или он видит, как становится мной? А может это общее виденье всех этих котов, что живут через две двери от меня? Может глупо, а может и нет: тот, чей это сон и придумывает правила игры. Но они не могут помнить этого двора, не могут помнить той синей надписи прямо над лавочкой, которую написал Бакланов, когда мы были на отработке в пятом классе: «Лизка дура!», а надпись эта есть, а значит и сон мой, и правила тут мои, и…
Я успел отпрыгнуть в сторону, не знаю уж как я успел почувствовать эту тварь, но еще бы чуть-чуть, мгновение… В темноте, передо мной, тяжело держась на неуклюжих, подогнутых ногах, стояла голая старуха – древняя, вычурно разваливающаяся, с глубокими, врезающиеся в кожу, глубже, в череп, морщинами. Тяжелые сухие груди провисли, на острых ребрах висит неопрятная шкура, будто даже рваная, болтается противным зобом двойная вертикальная складка на шее, торчат опухшие, будто бы надутые изнутри мослы. В глазах старухи черная пустота выпертые глазницы без ничего, даже без мертвых стеклянных белков глаз.
Я отступил, ушел чуть в сторону, косматая старуха повела за мной головой, рот ее беззубый, не открылся, он словно бы отвалился.
- Уходи! – рявкнул я, оглянулся, на одно короткое мгновение, оглянулся назад, туда где на лавочке сломанным манекеном застыла настоящая моя любовь, снова развернулся к старухе. Она дышала мне в лицо, ее глаза, пустые глаза, были перед моими, беззубый рот щерился сизыми деснами.
Я неуклюже толкнул ее, отпрыгнул прочь, она пошатнулась неестественно, неправильно, будто ноги ее были пришпилены к земле, а сама она была сшита из тряпок, без единой кости. Спина ее провисла едва не до земли, переломившись в пояснице, а потом она медленно, неотвратимо выпрямилась, и уже из ее рта донеслось хрипатое, оглушающее шипящее, мертвое:
- Уходи.
Она медленно подняла руки, белые, словно кости - пальцы с острыми когтями, влезли ей в рот, а после, все так же медленно, размеренно, она стала разрывать себя, распахивать свою неуемную пасть, пока не раззявила ее в огромное гнилостно кровавое ничто и оттуда рвануло сначала многоголосо, а после разноцветно и гнило кошки. Огромные, в парше, сплошь лишайные, рваные, гнилые, подбитые, и несло от них трупной гнилью, кислой вонью струпьев, а поверх всего этого, поверх кошек рослых, с человечьими руками и острыми когтями, поверх вони этой – взвился ввысь вой старухи.
Кошки не ждали: они, будто по приказу, рванули разом, вскинули костистые руки-лапы, когти тусклые, острые жадно выпростались из пальцев-лап, я отступил и, когда уже должна была начаться боль, вдруг все замерло, остановилось, но лишь на мгновение, короткое мгновение, когда я стал котом.
Когти, гнилые рты, желтые глаза, струпья и дикий ор – все вертелось, все сходило с ума, темнота озарилась этой густотой действа. Я чувствовал, как его когти рвут чью то плоть, чувствовал как мои пальцы давят чьи то шеи, чувствовал отвратительно-приторно соленый вкус чужой кров на губах. Я был счастлив! Я был жив и я убивал! Они, вышколенные улицей, жалкие, подобранные, не знали через что прошел мой непокорный Барсик. Они не знали, как я его ловил, как он урчал, орал на меня громко, царапался. Я подобрал его не из жалости, за боевой его дух взял, за непокорность. Еще когда он был котенком, видел, как гнал он кота, здорового, зажравшегося, хоть сам был тощ как спичка, ободран, жалок, шатался от слабости. Видел, как сбегал он от своих нечаянных хозяев, как обходил он вываленные бабками остатки супа, каких-то жеванок, каш невнятных - мусора. Что они могли, эти квартирные дохлячки, всю жизнь полагающиеся на жалкое мявканье, что они могли сделать ему, вышколенному улицей и гордостью своей.
Все прекратилось разом. Только что была круговерть, в которой он, кот мой, управлялся и за меня и за себя, успевая крушить, руками, лапами, тяжелыми ботинками с толстыми подошвами и зубами, и тут же просто чернота, тишина заросшего парка и я посередине всего этого. Слышно, как распевают сверчки свои песни, вновь ветерок шумит листвой в высоте, откуда-то доносится тихий, далекий совсем, звук проносящейся машины, высоко-высоко, над рощей, над школой, над всем этим сном, блистают звезды – острые, маленькие, холодные.
Оглянулся: свет лампы над лавкой, мотылек порхает под самым фонарем, тень его бьется бешеными крыльями, то вытягивается она длинной чернотой, то вновь становится маленьким черным пятнышком на кирпичной стене. На лавке пусто. Манекена нет.
Оглядываюсь, вижу вислую, будто не глаженную, спину старухи, ягодицы ее тоже обвислые, сизые, грязно и патлато свисает седая пакля волос. Через плечо у старухи, застыв деревянно, перекинут манекен молодой учительницы. Еще мгновение и старуха скрывается за поворотом.
Бегу следом, несусь, прыжками рыжелапыми, кошачьими в мгновение, стрелой, вылетаю за поворот и… Снова тот же задний двор школы, та же роща, те же звезды, та же лампа с лавкой, только мотылька нет. Снова бегу, рвусь, и снова вылетаю с другой стороны двора. И снова, и снова, и снова…
Утром, когда проснулся, не вскочил, просто открыл глаза. Барсик на мне, на груди лежит, тоже уже не спит, глаза открыты.
«Не догнали» - говорю ему молча.
«Не успели» - он спрыгивает с меня, отходит в сторону, смотрит на меня пристально, в голове звучит: «Надо заканчивать сегодня, надо торопиться, пока они все там».
Я его понимаю. Они все остались там, Барсик справился, но это во сне, а во сне у кошки девять жизней. Они вернутся, если медлить – они вернутся.
Я встаю, одеваю халат, он лежит тут же, около кровати, иду в кладовку. Там все вещи на своих местах, когда долго живешь один быстро привыкаешь убирать все на свои места – это становится второй натурой. Я знаю что мне нужно, для того чтобы разбить стеклянную старуху. Не глядя, просовываю руку в темноту, под нижнюю полку, нащупываю рукоятку, достаю молоток.
Звонок звучит долго, трель его гремит раз за разом, а мне все не открывают, но вот и шаги слышно. Старушечьи, шаркающие.
- Кто? – голос сонный, с хрипотцой. Главное чтобы старуха сейчас не вспомнила о ночи, пока еще не до конца проснулась, пока она пуста без своей свиты – клетка без замка, только дверцу открыть.
- Анна Дмитривна, это я, Артем, я у вас вчера телефон забыл.
- А, Артем… Сейчас, подождите, - слышится звук открываемой двери, скрип, и передо мной она – старуха, хрустальная клетка души, - пойдемте. Я там вроде убирала, не видела… Может упал. Посмотрите.
Иду следом. Молоток зажат в кулаке за спиной, можно ударить сейчас, но это неправильно. Я должен увидеть пленницу сначала, я должен показать ей путь, и тогда все будет правильно, все будет по-честному – зазвенят хрустально осколки, зеркалом разбитым разлетится старуха по растрескавшимся уже линиям глубоких морщин. Тогда все будет по-честному.
Мы заходим на кухню. Я вижу следы пребывания здесь кошек, но самих их нет: мнется диван кухонный под пустотой, прогибается будто от лап, в блюдце само по себе плещется молоко, катается по полу клубок, азартно так катается - весело. Все правильно, так и должно быть – пока души кошек не вернутся из сна, все так и будет, все так и будет.
Иду вперед, заглядываю под стол, делаю вид что ищу, смотрю по сторонам.
- Нашли?
- Может дома забыл? – пожимаю я плечами, иду на наглость, чтобы как вчера снова увидеть ее школьную, - А знатный у вас чай, вы какой завариваете?
- Вот, - она скучно скашивает глаза в сторону, где на столешнице рядом с микроволновкой лежит желтая упаковка чая, со слоном, такой же, какой при союзе еще продавали.
- Помню, - я улыбаюсь, незаметно прячу молоток в рукав, - вы меня простите, за беспокойство. Время такое, без телефона как без рук…
- Понимаю. Пойдемте, - она зевает, прикрывая рот рукой, и я снова следую за ней, снова жду. По дороге заглядываю в комнату: там тоже нет кошек, тоже мнутся диванные подушки под несуществующими лапами, в пустоте комнаты слышится бестелесное «мяу».
Я выхожу, снова деланно извиняюсь, стараюсь быть дружелюбным, ярким, таким, чтобы пойти на контакт, чтобы ей захотелось мне сказать что-то доброе, бесхитростное, дружеское.
- Вы меня простите еще раз. И за вчера. Работа, загруз, отчеты эти… Совсем, знаете, - улыбаюсь, - Как у вас к приезду горано. Помните?
Должна вспомнить, я же помню ее тогдашнюю, заполошную, с выбившимся прядками из прически, со скатками плакатов для открытого урока и огромной стопкой тетрадей, непонятно как не разлетающуюся белыми, зеленообложными чайками.
Она улыбается, и проглядывается, начинает что-то в ней проглядываться…
- Помню, тогда еще Евдокия Павловна… - я смотрю, улыбаюсь, и не отрываясь всматриваюсь, как сквозь нее снова просвечивает тот образ, та самая, и еще чуть, и еще малость и я освобожу ее, и мы обнимемся, и я смогу своими руками почувствовать ее настоящую, не затертую старостью и годами. Мы подошли к дверям, и уже пора было бы уходить, когда…
Молоток вскользь по ней прошел, едва только голову оцарапал, по плечу удар пришелся, а после она сразу захлопнула дверь. Я замер на мгновение, и только потом кинулся на препятствие, но было поздно – щелкнул замок. Я бился, кричал, доказывал что это все для нее, и кошки, и чеширский – все для нее, для нее одной, для того чтобы она снова была молодой. Дверь была крепкая, хоть и не железная. Не успел. Потом меня забрали. Сначала ударили сзади, а потом, когда я обернулся, добавили тяжелым кулаком по скуле, руки вывернули и забрали.
Когда мы выходили из подъезда, к нам навстречу вышел чеширский. Я закричал на него, заорал, попытался снова выпустить когти, но у меня не получилось. Чеширский даже не глянул в мою сторону: он ловко юркнул в подъезд, исчез. Я оглянулся на окно, там, наверху, за стеклом была Анна Дмитриевна, перед ней по подоконнику выхаживали кошки, а рядом, за спиной Анны Дмитриевны, стоял полицейский, что-то спрашивал. Она отвечала, но взгляда от меня не отрывала.
Я посмотрел на другое окно, там, за стеклом, был Барсик. Мой рыжий красавец, моя гордость, единственная близкая моя душа.
- Кот! У меня кот остался! Отдайте его Анне Дмитривне! Он же умрет.
- Кот у него, - хохотнул тот, что меня вел.
- Да ладно тебе, - сказал второй, - тварь то в чем виновата? Кто это такая – Анна Дмитриевна?
- Потерпевшая, - выпалил я.
- Хорошо устроился, - снова хохотнул первый, - сначала молотком отходил, а теперь животину свою на пансионат устроить решил. Че, Коль, сбегаешь?
- Ага.
И полицейский, тяжелый, грузный, развернулся и легко, едва ли не бегом, побежал вверх, только шаги тяжелые было слышно.
- А там хоть открыто?
- Открыто. Я только дверь прикрыл, когда…
- Ясно, - он усадил меня на лавку, сам сел рядом, - А за что ты ее? Доставала? У меня, вон, этажом ниже, такая грымза живет! Веришь, я б ее…
- Люблю я ее, - сказал я тихо, а сам в окно смотрел. Уже видно было, как Коля полицейский вошел в комнату, по сторонам осмотрелся, только вот зачем – перед ним же кот, на подоконнике прям сидит Барсик мой, вниз смотрит.
- Че? – спросил полицейский, - Кого любишь?
- Анну Дмитриевну.
- Не понял. Ты того, как это… Геронтофил? – Коля полицейский тем временем появился в окне кухни, а после и за окном комнаты прошел. Ну как же он не видит Барсика, как?!
- Нет, я не эту люблю… Не старуху. Я люблю ту, которая… Она меня в школе учила, первая любовь. Я ее освободить хотел, от старухи…
- А, ну ясно. Белочка. Ниче, мужик, бывает.
Послышались быстрые тяжелые шаги вниз по лестнице, из подъезда выскочил Коля.
- Нет там никакого кота. Может выбежал?
- Да у нас клиент, - и его напарник чуть присвистнул, - совсем белый, совсем горячий.
- А, - Коля усмехнулся, - тогда ясно.
Когда меня грузили в машину, я смотрел на Барсика, а он смотрел на меня. Ему стало скучно, да и на подоконник села птица, и он, как и часто до того делал, легко прыгнул сквозь стекло, и едва-едва не поймал шустрого воробья. Тот успел взлететь, разве что пара перышек медленно вниз полетели, а Барсик разлегся на подоконнике, только уже с внешней стороны окна.
Когда я был в одиночной палате, ко мне пришел Барсик. Он легко прошел сквозь железную дверь, запрыгнул на скрипучую кровать.
«Как ты тут?» - прозвучало у меня в голове.
«Нормально, жить можно».
Барсик муркнул, лизнул переднюю лапу, огладил ею ухо, спросил:
«Хочешь увидеть старого друга?»
«Хочу» - мне было уже без разницы. Я что-то выпил, еще мне что-то вкололи, думать не хотелось, говорить не хотелось, даже Барсик не радовал.
Кровать рядом с Барсиком промялась, а через мгновение там уже сидел тот самый мальчик с фотографии из квартиры Анны Дмитриевны, даже октябрятская звездочка была при нем. Он улыбался, болтал худенькими ножками в наглаженных до острых стрелок штанишках.
«Ты меня помнишь?»
«Нет»
«А если так?»
Он спрыгнул с кровати, громко ударились подошвы о пол, подошел ко мне, повернул голову так, этак, и я почувствовал, как засыпаю, глаза закрылись и…
Заросший парк на заднем дворе школы, за заброшенным тогда крылом. Темно, слышно как сверчки поют о чем-то своем, шуршит листва, по ночному шуршит: тихо, но как-то густо, полновесно. Впереди, там, за деревьями, за изгибами низких акаций, почти под светом фонаря, в легкой тени высокого тополя приютились они: Анна Дмитриевна и он, новенький физрук, не так давно вернувшийся из армии. Все его называли «барашком» за кучерявую шевелюру, был он красавчик, при модных тогда усах, широк в плечах, ухватист в ладонях, и еще у него ямка была на подбородке.
Он говорил Анне что-то громко и пылко. До меня, спрятавшегося в густом поросли, доносились лишь отдельные звуки, какие-то вскрики, непонятные восклицания. Она молчала, отворачивалась, а потом, когда он вдруг решительно встал, она сама кинулась к нему, обняла. Он ее успокаивал, говорил ей что то, гладил по спине, а потом начал целовать, а потом его руки стали мять ее, лезть под блузку. Я почувствовал, как наливается тяжестью низ живота. Оказывается я врал, я прекрасно помнил, что надо делать с похотью, как ею овладеть. Я не любил ее, я хотел насладиться с ними, я хотел брызнуть горячим и липким в эти заросли. Расстегнул ширинку, потянулся за ним, и уже было начал…
Рядом, в зарослях, хрупнуло. Я вздрогнул, оглянулся, завертел головой из стороны в сторону и увидел того самого мальчугана. Я вспомнил его, как я мог его забыть! Это же сын Анны Дмитриевны, он учился ни то в первом, ни то во втором классе – это уже мелочи. И какого черта его сюда занесло. Мальчишка смотрел то на меня, то на свою мать через заросли, и глаза у него были широкие, испуганные.
Я быстро застегнул ширинку, зашипел на него злобно, показал кулак. Парнишка сжался, втянул голову в шею и было начал отползать, а я подумал: «А если он ей все расскажет, а если…». Я пополз следом, а он оглянулся, ойкнул испуганно, соскочил и бегом припустился. Я следом. Ветки цеплялись за школьную форму, царапали, били по лицу, а потом, как-то сразу, мы оказались у заболоченного берега брошенного котлована. Я разве что услышал, как вскрикнул мальчишка, увидел, как он вдруг сразу провалился – одна голова торчит из жижи на вытянутой шее. Рядом, почти у ног моих, валялись длинные срубленные стволики. Мне бы схватить один, да бросить, протянуть. Я смотрел, смотрел на него, смотрел как он медленно, широко, словно рыба, распахивая рот, погружается все глубже и глубже. И вот уже только глаза, почему то мне казалось, что я их разглядел, хоть и темно было, хоть и далековато он был, а потом и их не стало – прошла тяжелая, медлительная волна, будто не по воде, а по маслу, и все. Тишина.
Да, именно потом Анна Дмитриевна ушла из школы. А я, почему-то забыл, все забыл – напрочь. Наверное потому что хотел забыть. Такое, наверное, случается, когда закрываешь дверь в комнату с воспоминаниями, а потом выбрасываешь ключ.
Я, привычно уже, открыл глаза, ожидая вновь увидеть палату, но, вместо нее, увидел темноту. Рядом, в зарослях, кто-то копошился, а что творилось там, впереди, на лавочке, не было видно. Я чуть прокрался вперед, и уже почти видел лавочку, и тут под ногами что-то хрупнуло. Я оглянулся в сторону, туда откуда доносилось какое-то тихое пыхтенье, возня, и увидел мальчишку из старших классов. Он, почему-то, был со спущенными штанами и смотрел он на меня злобно. Я, от испуга, вжал голову в шею, стал отползать, оглянулся – мальчишка полз за мной. Я побежал, и он тоже. А потом, сразу, земля пропала из под ног и я провалился, по шею, меня стало затягивать. Я хотел кричать, но на грудь давило тяжелой холодной водой, болотной жижей. Мальчишка смотрел с берега на меня, не двигался и, будто даже ухмылялся. Было страшно, было жутко. Медленно приходила пустота, я бился, я пытался вдохнуть, но все закрывало, залепливало тьмой: глаза, рот, нос, уши, а потом…
Я снова открыл глаза, надеясь увидеть палату, но… Увидел темноту. Рядом, в зарослях, кто-то копошился…
Автор:
Волченко П.Н.
Спасибо всем прочитавшим текст.
Принимаю заявки на последующую текстовку, можно как жанр, так и предварительную концепцию оно.
Еще раз спасибо вам всем, не поленившимся, и потратившим время и внимание (что особенно приятно) моему творчеству.
Рассортированные по жанрам ссылки на прочие мои произведения в разделе:
Простите (разбивка по выкладкам в аккаунте)