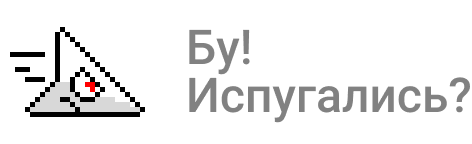Перед вечером ко мне в магазинчик, как обычно, заглянул Ханан – купить чего-нибудь на ужин. Побросал в корзинку помидоры, огурцы, свежие салат и укроп, смел с полок холодильника молочные продукты, захватил бутылку русского кваса и буханку ещё тёплого ржаного хлеба, который поставляет мне Лёшка из своей булочной (всё-таки научил я местных ребят, что такое вкус настоящего хлеба!). Потом с таким видом, как будто он вешает красный флаг в оккупированном немцами Краснодоне, Ханан украдкой подцепил кусок «неправильной» колбасы в вакуумной упаковке и заговорщически подмигнул мне.
- Абсорбировал я тебя? – подмигнул я ему в ответ, и мы заулыбались друг другу. А ведь, в общем-то, так оно и есть: если за семь лет, что я держу продуктовую лавку в Кирьят-Хаиме, я до сих пор не разорился, так это во многом благодаря тому, что местные жители распробовали то, что мы, так называемые русские, ели всю свою прежнюю жизнь. Так что абсорбировали мы их на их же родине неплохо. Правда, и они нас не «пожалели»: Лёшка сегодня и пятничные халы делает, и такие питы – и друзские, и иракские – что пальчики оближешь, а у меня в магазинчике отдел хумусов и солений разрастается, что ни год, а недавно пришлось купить ещё и новый холодильник, чтоб вместить все сорта любимых кирьят-хаимцами йогуртов. Словом, абсорбция получилась полной и двусторонней, что и является конечной целью любой абсорбции, если мне не изменяет память доцента МХТИ.
Посетителей у меня много, со всеми я работаю на основе полного доверия: я записываю сумму покупки, а они платят мне раз в месяц и давно уже не боятся, что я смухлюю в расчётах. Ну, а поскольку я и живу тут же, в соседнем доме, то постепенно превращаюсь в такую же незыблемую часть пейзажа, как пляж, блочные четырехэтажки и призывно мерцающие вдали огни Хайфы. Все меня знают, всех и я узнаю в лицо, ни разу ни с кем не ругался, и даже местная подростковь знает, что у Гриши пиво не купишь даже «для папы» и даже за двойную цену – Гриша (то есть, я), он же бывший кандидат химических наук Григорий Израилевич Тененбаум, малолеткам ни сигареты, ни алкоголь не продает. И папы малолеток мне за это благодарны, а мамы и подавно, и получается, что в нашем микрорайоне человек я, если и не всеми, то многими уважаемый.
Но настоящая дружба у меня получилась только с Хананом. Что и неудивительно для двух тихих стареющих холостяков, делящих одну лестничную клетку. Началось с взаимного одалживания вечно недостающих соли и спичек, потом я его пригласил на солянку собственного приготовления под ледяную водочку. Потом он меня – на футбол с кальяном и тремя видами семечек. Потом я ему показал, как празднуют Новый год, настоящий, который первого января наступает, а он мне устроил такую мимуну, что мы оба чуть в диабетическую кому не впали! И это при том, что он не марокканец. В смысле, не только марокканец: Ханан настоящий израильтянин, поколении в девятом или в десятом – он сам уже не помнит, и в его генах, кажется, все двенадцать колен израилевых коленками друг о друга стукаются. Потому он и любым праздникам рад, и всем обычаям открыт, и сам норовит окунуть свежеприбывшего в израильскую культуру. Сколько он мне кассет музыкальных перетащил – это же уму непостижимо! Ты, говорит, всё равно в лавке дурака валяешь, так хоть приобщайся! От Яфы Яркони и Зоара Аргова до Мати Каспи и Номи Шемер – все я за эти годы переслушал, и кое-что даже полюбил. А потом уже и книги в ход пошли, причем, в обе стороны. Он в библиотеке по моей рекомендации русскую классику берет (переведенную на иврит, естественно), я раз в месяц в хайфский книжный магазин выбираюсь и по его наводке там израильских авторов покупаю: Кишона, Шалева, Оза. Тоже в переводе, конечно – иврит у меня не так чтобы очень, а скорее даже, не очень чтобы так. Вот о книгах мы уже могли всерьез поговорить, без водки и без футбола. И о русских кибуцниках, и о философии толстовского Левина, которого Ханан сразу записал в еврея из рода Леви. Интересно, что мы, проживя по полсотни лет в совершенно разных странах, чаще соглашались, чем спорили.
А сегодня Ханан, как оказалось, пришел ко мне в лавку с сюрпризом.
- Гриша, – сказал он, сияя, – завтра закрой свой концерн на час раньше. К нам в Кирьят-Хаим, в помещение Северного театра лучший театр страны привозит новую постановку «Вишнёвого сада». Билеты я уже взял, так что готовься. Можешь даже погладить эту рваную майку, чтоб мне не было за тебя стыдно!
Поддел он меня, зараза! Я весь первый год после репатриации стеснялся из дому без галстука выйти, пока климат и простые нравы окружающих не взяли верх. Но «Вишнёвый сад»... Сколько я их в Москве видел – и столичных, и гастрольных? С десяток, наверное, наберется. Голоса Демидовой и Высоцкого до сих пор забыть не могу – сколько там всего звучало за простыми, казалось бы, словами! А здесь я как-то без театра обходился: мои кумиры кто постарел, кто просто умер, ходить на тех, кто сегодня приезжает, мне неинтересно, а местных посмотреть до сих пор не сподобился. Да и язык, опять-таки, хромает, что я там пойму? То есть, спектакль по «Вишнёвому саду» я, конечно, даже на суахили могу смотреть, поскольку текст пьесы почти наизусть помню, вот получу ли удовольствие – это уже второй вопрос! Но Ханан так светился от радости, что я выразил восхищение его идеей и готовность не только погладить майку, но и надеть черные носки к белым сандалиям, а самому Ханану купить футболку с надписью «Я с дебилом». Собственно, думаю, а что я переживаю: насколько уже можно испортить «Вишнёвый сад», чтобы я не получил удовольствие от самого факта похода в театр? Да и Ханану полезно посмотреть одну из лучших русских пьес, будет потом о чем спорить.
...Из театра мы возвращались молча. Не знаю, как Ханан, а я был в лёгком шоке. Последний раз такую плохую игру я видел на утреннике одной московской школы, где литературу преподавала моя покойная сестра: она и затащила меня на постановку «Ревизора» силами семиклассников. Нет, я понимаю, народу нужны положительные эмоции, но пихать в центр постановки Епиходова, чтобы зрители смеялись – это решение слишком могучего для меня ума. Самодовольный Лопахин, похотливая Раневская – можно, наверно, и так их увидеть, но если бы это хотя бы было подано вкусно – куда там: и манеры, и жесты – всё было фальшивым. Но даже в таком виде чеховский текст, плывущий над сценой, был велик и страстен, и я хорошо понимал молчание Ханана, наверняка, завороженного и очарованного Чеховым раз и навсегда. Мы расстались у дверей наших квартир, так и не проронив ни слова за всю дорогу.
Поздней ночью я проснулся оттого, что в мою дверь истово колотился Ханан.
- Что случилось? – банально спросил я его. Судя по взлохмаченному виду и по тому, что он был полностью одет, я предположил, что Ханан так и не ложился.
- Вот объясни мне, – сразу с места в барьер понесся Ханан, – почему она не хотела делить участок на домики?
- Кто? – ещё не вполне проснувшись, не понял я.
- Ну, эта, как ее... которая из Парижа от хахаля вернулась.
Я начал медленно врубаться в разговор.
- Может, зайдёшь? – спросил я Ханана, чувствуя, что меня ожидает беседа из серии «Сеня, объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы».
Ханан прошел на кухню, достал из шкафчиков необходимые ингредиенты и принялся заваривать кофе. Я натянул шорты и пресловутую рваную майку и присоединился к нему как раз в тот момент, когда Ханан разливал ароматный кофе по чашкам.
- Так тебя интересует, почему Раневская не вырубила лес? – как бы вскользь поинтересовался я. Ханан уставился на меня долгим взглядом.
- Я так понимаю, – наконец, заговорил он, – если это сюр, то и искать в нём обыденный смысл не приходится...
- Нет, это не сюр, – перебил я гостя.
- Тогда не понимаю - ни логику их поступков не понимаю, если она там вообще есть, ни почему эти неумные бездельники, по идее автора, должны вызывать симпатию у зрителя – не понимаю, и всё тут! – Ханан развел руками. Таким растерянным мне его видеть еще не приходилось. Я даже улыбнулся, до того неожиданным было это зрелище.
- Понимаешь, друг, – начал я задушевно и вдруг запнулся. Как-то всю свою жизнь я общался с людьми, понимавшими Чехова на инстинктивном уровне, и объяснять Ханану, кто такая Раневская, было для меня не менее диким, чем растолковывать инопланетянину, зачем я дышу. Но тут я вспомнил, что говорил о русской драматургии любимый мной Вудхауз – что-то типа того, что мрачные личности беседуют, как всё плохо, и не повесился ли Иван в амбаре, и, заменив амбар сараем, перевёл это на иврит. Ханан хрюкнул от удовольствия, но быстро посерьёзнел и выжидательно поглядел на меня.
- Как бы это попроще выразить? – я сделал несколько пассов руками, не в силах выразить свою мысль, к тому же на языке, которым плохо владею, да ещё и в четыре часа утра.
- А попроще не надо! – естественно, тут же вызверился Ханан. – Как сам чувствуешь, так и мне передай. Как-нибудь соображу, что ты имел в виду.
- Понимаешь, Ханан, – я стал мучительно подбирать правильные слова, – это ведь не дом. И не сад. Это жизнь. Это статус. Да даже не статус – это как часть тела. Этого нельзя лишиться. И продать это нельзя так же, как ты не можешь продать свое сердце, к примеру. Или свою руку.
- Но ведь это же все равно продадут! – заорал Ханан. – Или удалят, пользуясь твоей дурацкой терминологией! А она не хочет слушать, когда ей врач говорит о том, что нужно наложить гипс на руку, иначе её придется ампутировать! Почему?
Я невольно улыбнулся: Ханан привел очень точную аналогию.
- Видишь ли, это такие люди. Это последнее поколение, которое, родившись, получило всё в подарок. Это последнее поколение, которое физически не понимало смысл выражения «если тебя насилуют трое, расслабься и получи удовольствие».
- Что они не умели, расслабляться или получать удовольствие? – въедливо уточнил Ханан.
- Они ни хрена не умели, – честно ответил я. – И они не виноваты: того, что было хорошо для их дедов-прадедов, вдруг стало недостаточно. Приходится брать деньги взаймы у Лопахиных, предлагать ему чуть ли не породниться, решать какие-то денежные вопросы. Они живут, и им кажется, что это все дурной сон, понимаешь? Что вот-вот они проснутся, а дом не продаётся, долгов нет, да и маленький сын, тезка мой, не утонул, а вот он, рядом.
- Гриша, о чём же тут огород городить? Пусть даже вишнёвый? О поколении страусов? И это ты называешь вершиной русской драматургии? Как ты можешь воспринимать всерьёз этот балаган: может, бабка деньги даст, а может, наследство оставит, а может, под вишней клад зарыт, а может, ночью пройдёт поезд с деньгами, и один вагон прямо у дома отцепится? Это же бред.
- Бред, – согласился я. – Но ты не забывай: сам Чехов назвал «Вишнёвый сад» комедией.
- Ты хочешь сказать, что он над своими героями смеялся? – подозрительно спросил Ханан.
Мы уже допили кофе, и теперь он колдовал над второй порцией, склонившись над плитой и стоя ко мне в профиль.
- Ханан, ты меня не слышал, даже когда оба твоих уха были обращены к моему рту, – устало сказал я, – а уж теперь-то и подавно не поймешь! Чехов не смеётся над ними, но тебе предоставляет эту возможность, если ты больше ни рожна из пьесы вынести не можешь!
Ханан аккуратно разлил кофе по чашкам.
- Я вот другого не понимаю, – закурив, бросил он, – вот ты, Гриша, был там лектором в университете (не совсем лектором и совсем не в университете, но я давно перестал поправлять израильтян в этом пункте. Впрочем, как и во всех остальных), тебя уважали, твои статьи печатали научные журналы, а сегодня ты с улыбкой взвешиваешь Симхе-наркоману три солёных огурца, делая вид, что не замечаешь, что он сунул грязную руку в рассол и сожрал с десяток маслин вместе с косточками.
- Ну, – хмуро ответил я. Тема беседы переставала мне нравиться.
- Но ты же, репатриировавшись и увидев, что лектором тебе не стать, не полез в бутылку, не спился, не бегал по Кирьят-Хаиму с криками «Ах, милые студенты! Ничего не хочу слышать, верните мне их!», правда? Ты начал все с нуля, раскрутил свою лавку из ничего, ужинал некупленным у тебя черствым хлебом и макал его в тот самый рассол, где Симха впервые за неделю мыл руки! Ты же мне сам это рассказывал, Гриша!
- Рассказывал, – не стал спорить я. Увидев, что Ханан не тычет мне в нос моим падением в социальном (хоть и не в материальном) статусе, я успокоился.
- Почему же ты жалеешь этих неумех? Да ещё и где-то переносишь на себя их ситуацию? Переносишь, переносишь, я же вижу, – гнул свою линию Ханан. – Или это и есть ваша загадочная русская душа?
- Ну, ты, брат, сначала реши, наша или русская, – пожал я плечами, – а этих, как ты выражаешься, неумех, я действительно жалею. Просто жалею, и все. Потому что эти чистые, добрые, порядочные люди гибнут. Как факт, теперь таких неумех нет, а мир без них огрубел.
- Добрые, да. Веками рабов держали, но добрые. А старого раба просто оставили подыхать в одиночку, но чистые, – пригвоздил Ханан Раневскую с компанией.
Я не сразу сообразил, что под рабами Ханан понимал крепостных крестьян, и, в общем, не слишком ошибался. Мы помолчали.
- Какая-то непревзойдённая чепуха! – с отвращением выдавил Ханан. – А твое отношение к ним меня просто убивает! Ладно, проехали. Ты мне лучше другое скажи: в хайфскую «Синематеку» иногда привозят старые русские фильмы. На следующей неделе там будут показывать какого-то Обломова. Сходим?
- Нееееееет! – закричал я, срываясь с табуретки. – Неееееееееееееет!!!
© Ян Каганов
Источник