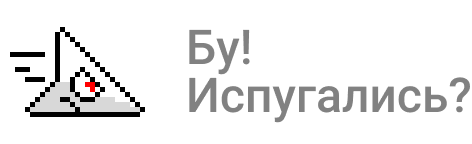И вот мы с сестрой услышали, как кто-то очень красиво поет.
Голос, всепоглощающий, бархатный бас плыл по вокзалу, отражался от стен госпиталя, выливался из окон второго этажа, заполнял собой все пространство между зданием казармы, в которой мы жили и самим госпиталем.
Не стало слышно грохота колёс, проезжающих мимо грузовиков, мы с сестрой замерли. Это я сейчас могу объяснить свои чувства и переживания, тогда я просто остолбенел.
Я никогда не слышал такого голоса. Ни до, ни после этого. В нем сочеталось несочетаемое. Боль и радость, душа и птицы, счастье и разлука, шум моря и степной ветер... И хрипотца, которой заканчивался каждый последний звук в каждом слове песни.
И еще звук аккордеона, но он был потом... сначала был голос....
Мы с сестрой бросились посмотреть поближе, но не смогли сразу пробраться через толпу – все было забито. Людей было неимоверно много.
Все, что мы смогли выяснить, что это были проводы сибиряков на Алтай, и пел старший лейтенант Любимов. Его перевели, как выздоравливающего из Гомеля, где находился госпиталь с бойцами, которые получили ожоги. Как правило это были танкисты.
Я не знаю, как у моей сестры оказался букет полевых ромашек, и как она попала на импровизированную сцену, где играл и пел старший лейтенант Любимов, но ей это удалось.
После концерта Михаил, оказалось, что так звали певца, сам подошел к нам и поблагодарил Машу, мою сестру, за цветы, и вызвался нас проводить.
Все девушки–медсестры госпиталя, завидовали Маше, это было им не скрыть.
Я же не смог с первого раза посмотреть Михаилу в глаза. И понял о ком местные сорванцы–беспризорники, которые ошивались и кормились на станции, возле госпиталя, говорили, что к нам приехал «страшный лейтенант»... вместо старший лейтенант...
Лицо Михаила было изуродовано ожогом на две трети. Вся правая часть, включая ухо и шею. Правая рука была без одного пальца и тоже вся в ожоговых шрамах.
Ему было двадцать шесть лет. Родом он был из Одессы, это на берегу Черного моря, в Украине. Был командиром танкового батальона. Воевал на Т–34, и ласково называл танк – любимая коробочка. Знал тысячу смешных историй, и мог рассмешить даже умирающего.
Так в нашей с Машей жизни появился старший лейтенант Любимов.
С Машей они гуляли каждый день. Каждое утро он неизменно приходил к нам с букетом полевых цветов. Всегда одет с иголочки. Всегда чем-то хорошо пахнущий, и всегда веселый. Маша отвечала ему взаимностью и не отпустить на прогулку папа Машу просто не мог. Отцу пришлось навести справки о нем, потому что он видел, что наша Маша влюблена, влюблена по уши, как говорила наша бабушка, а она знала толк в жизни.
Вечером, за ужином, я узнал от отца, что старший лейтенант Любимов прошел всю войну. Два раза горел в танке. Последний раз в Берлине. Награжден тремя боевыми орденами и представлен к Герою, но пока не пришел ответ из Москвы на этот счет.
Пел и играл на гармошке с детства. Не успел закончить институт культуры и начал воевать вместе со всей страной, в июне 1941 года.
Последнее ранение было тяжелым. Но он выкарабкался. Правда у него плохо, из-за ожога, работало веко на одном глазу, моргало чуть медленнее, чем здоровое, и совсем не росли волосы на голове.
Мне, да и всем домашним, кроме Маши, приходилось прилагать усилие, чтобы при разговоре с Михаилом смотреть ему в глаза, настолько страшно было изуродовано его лицо.
Отец пытался отговорить Марию, он всегда к моей сестре обращался по–взрослому, если был какой-то важный вопрос, и называл Машей просто дома за чаем.
Маша сидела за столом с каменным выражением на лице и не произнесла ни слова.
Ей уже было восемнадцать лет и отец хотел, чтобы она поступила учиться в Москву, старший лейтенант Любимов же, звал ее с собой в Одессу, Одессу–маму, так он звал свой родной город.
До выписки из госпиталя еще было три недели. Целых три недели.
Михаила уговорили давать концерты каждый день. И выздоравливающим воинам легче, и для местных жителей такой концерт, с таким исполнителем, практически праздник. Окраина Минска возле госпиталя на тот момент превращалась в оперный театр без границ. К нему на концерт водили даже детей со всего Минска. Тех, кто хотел научиться играть на каком-то инструменте.
После концерта Михаил всегда учил детей играть на аккордеоне. Да и, практически каждый день, старший лейтенант Любимов давал уроки игры на всем, что играло и могло издавать звуки.
На гитаре, на старинном, невесть как пережившем войну пианино, с непонятной надписью для меня «Hofmann и Czerny», на пустых кастрюлях, учил играть на барабанах, и так ловко все у него выходило!
Слухи о человеке с изуродованным лицом, но божественным голосом с хрипотцой, сначала расползлись по всему Минску, а потом и по всей Белоруссии.
Даже беспризорники, после того, когда я подрался с одним из них, кто бросил Михаилу в след «страшный лейтенант», больше его не обзывали. Не решались.
После каждого своего концерта Михаил приходил к нам домой, приносил обязательно что-то вкусное, у него было много поклонников его таланта, впрочем, как и поклонниц, и каждый норовил Михаила чем-то угостить, ну а он, в свою очередь со всем этим добром приходил к нам, на обязательный вечерний чай во дворе нашего дома, где мы жили.
Всегда был в хорошем настроении, и всегда рассказывал очень смешные истории, мы хохотали до слез. Даже папа с мамой. Но лед между ними не таял. Они считали его врагом. Бабушка была на стороне Маши. Как-то помню его историю, которая развеселила даже папу. Байка была о Маршаке, который остался в Москве и не уехал вместе с женой и младшим сыном в эвакуацию. С ним осталась его секретарша. Уже в годах и очень ему преданная. Была она немкой по происхождению, и вот, когда по радио объявлялась воздушная тревога, то Маршак, каждый раз подходил к ее двери, стучал, и говорил фразу:
– Розалия Ивановна, ваши прилетели!
Минск потихоньку восстанавливался. Бомбежек же, конечно, уже никаких не было.
Но взрывы иногда доносились до нас.
Это саперы взрывали неразорвавшиеся бомбы или мины, которые разминировали в городе и в лесах вокруг города....
По утрам они с Машей ходили гулять в близлежащую рощу. Очень часто брали с собой и меня. Да, и Мишино уродство на лице, почему-то стало совсем не заметным.
Миша всегда много рассказывал, например от него я узнал, что у белорусов есть обычай, – сажать дерево при рождении ребенка: если дерево примется и будет хорошо расти, то и ребенок будет здоров и счастлив. И в этой, нашей роще было множество таких деревьев.
Чтить и уважать деревья и священные рощи — характерная черта дохристианской эпохи. Была у него с собой со всех сторон обгоревшая книжка, правда не помню, ни как называется, ни автора, и он часто читал нам из нее вслух, например о священной роще у полабских славян, которых описывал какой-то Гельмольд, еще в 1155 году.
Там росли только священные дубы.
У меня и сейчас стоит в ушах его торжественный бас, которым он читал книги в слух, как будто бы пел, как батюшка в церкви:
– О, здесь был и жрец, и свои празднества, и обряды жертвоприношений.
И здесь имел обыкновение собираться весь народ, да с князем во главе»
Белорусы свои священные рощи называли «прошчы».
Роща, куда мы чаще всего ходили гулять, состояла из очень старых деревьев, кое-где обнесенных старой оградой, в глубине которой, возле ручья стояла разрушенная часовня. Иногда мы видели, как к ней приходили люди, лечиться, пить воду, молиться.
Кто-то приносил старым дубам монетки, хлеб-соль, завернутые в полотно.
Михаил нам рассказал, что ленточки на священных дубах завязывают влюбленные, и покуда она сама не развяжется, то любовь в сердце людей выдержит любое испытание. Ведь нет ничего сильнее любви на земле. Даже смерть пасует перед ней.
А рощи, в которых растут священные деревья, оберегаются высшими силами!
Есть даже поверье, что если человек решался сбраконьерничать и срубить такой дуб, то человек тут же наказывался тяжелой болезнью, даже мог сойти с ума.
Ну, а если человек потом раскаивался и сажал на том же месте новое дерево, то говорят, он выздоравливал. Деревья не люди, они умеют забывать обиды и продолжать жить дальше, прощая людей. Хотя сам Михаил, как-то сказал, что, когда совершают предательство, это как ломают сразу две руки. Простить предателя можно, а вот обнять не получится.
Тогда, первый и последний раз я увидел у Миши в глазах слезы.
Маша с Мишей тоже повязали свою ленточку. Повязали ровно за час до беды.
Когда мы шли уже обратно, то я увидел в гуще леса полянку, на которой было много лесных ягод – земляники, она ярким красным пятном прямо звала меня к себе.
Я крикнул Маше, что я убежал лакомиться ягодами и побежал сломя голову через чащу леса. Земляника оказалось сладкой. Я так увлекся, что, когда услышал щелчок под левой ногой, не сразу понял, что произошло.
Мы, дети войны. Наши игрушки — это патроны, гранаты, спрятанные от отца ножи, пистолеты, тротиловые шашки и в свои четырнадцать лет я умел собирать и разбирать многие пистолеты, винтовки и автоматы, даже разминировать несложные мины, и потому по этому сухому щелчку сразу понял, что я попал в западню. Смертельную западню.
Под моей ногой оказалась противопехотная мина натяжного действия. Я не заметил проволоку, наступил на неё, но каким-то чудом мина сразу не взорвалась. Я понимал, что взрыв неизбежен, но также понимал, что убирать ногу с проволоки нельзя – это смерть. Я замер и стал звать на помощь, что еще мог сделать четырнадцатилетний пацан?
Первой прибежала Маша, следом за ней Михаил. По моей застывшей позе и неестественному положению руг и ног он все понял. Решение принял молниеносно. Обежав вокруг поляны, он нашел несколько поваленных деревьев, которые начал сносить и складывать возле меня. Когда своеобразная баррикада была готова, он сказал Маше, что он с разбегу прыгнет на меня и постарается сбить с ног так, чтобы мы с ним оказались с той стороны баррикады, а Маша должна в этот же момент, из-за бревен тянуть меня изо всех сил за руки. Но не высовываться, чтобы не подставить себя осколкам.
Нога у меня уже затекла, и я понимал, что бессилен сделать прыжок самостоятельно.
Михаил вел себя уверенно и даже успел рассказать нам анекдот.
Когда все было готово, Миша спросил у нас, готовы ли мы, и после утвердительного ответа начал отходить для разбега.
Я протянул руки сестре. Маша схватила меня. Я чувствовал дрожь ее рук и пульс, который был в унисон с моим. Миша крикнул, что-то типа «не ссать – прорвемся», и начал свой разбег.
Сильнейший удар, мой непроизвольный крик, причитание сестры и взрыв прозвучали за моей спиной одновременно....
Когда я пришел в себя и выбрался из-под завала бревен баррикады, через пыль, дым и опускавшиеся под силой тяжести взрывной волной и осколками, сорванные с деревьев листья, я увидел Михаила, который лежал в луже собственной крови.
Рядом с ним уже сидела Маша и выла по волчьи обхватив себя за голову.
Одной ноги у Миши не было по колено. Второй, по ступню.
Я был оглушён, но мысли работали ясно. Я закричал, что есть мочи, чем привел сестру в себя и мы вдвоем подняли, почему-то не очень тяжелого Михаила на руки, и понесли его в сторону города... сколько прошло времени, я не знаю, сознание было, как в тумане.
Звон в ушах, боль в спине, как от тысячи иголок, тошнота и дрожащие ноги...
...на встречу нам ехала штабная машина, видимо услышали взрыв...
...дальше все было как во сне... о том, что у меня три осколка в спине и два в голени я узнал уже на следующий день...
Мишу пытались спасти лучшие хирурги Минска. Они из него вытащили уже больше сорока осколков... и продолжали борьбу за его жизнь.
На следующий день отца экстренно вызвали в Москву. Мы все полетели с ним.
Уже садясь в военный самолет нам сообщили, что Мишу еще пытаются спасти, но пришлось ему ампутировать обе ноги. Одну по пах... на этом связь оборвалась.
Это было в конце лета 1945 года.
В Московском госпитале мы с Машей пролежали месяц.
Она с контузией, я с осколочными ранениями.
Еще в госпитале папа сообщил нам, что Миша умер. Не выдержало сердце.
Бабушка говорила, что, наверное, так даже лучше, чем если бы он выжил, мало того, что с изуродованным лицом, и без пальца, так еще и без ног. Беда.
Сестра моя, Машенька, перестала разговаривать. Совсем. Онемела. Врачи не могли понять причину, но все списали на последствия контузии.
Мы учились все общаться с ней заново. Писали друг другу записки.
Она по необходимости. Мы из солидарности.
Смеяться она тоже перестала. В ее русой косе до пояса, появилось много седых волос.
Через год она поступила в институт. Политехнический. На особых условиях.
Освоила азбуку для глухонемых.
Все эти годы Машу возили по лучшим клиникам страны в попытке вернуть Машеньке речь. Но «светила» медицинских наук были бессильны.
Я же через несколько лет ушел служить во флот, где и прослужил на крейсере четыре года. Черноморский флот и Севастополь стали моим домом на это время.
Когда вернулся, то Москву было не узнать, а вот сестра не изменилась.
В нашем доме по-прежнему жила тишина.
В одно прекрасное утро, наша бабушка сообщила, что ей срочно надо поехать к приятельнице в Минск и, пока я еще не устроился на работу и был свободен, должен был ее сопроводить.
До Минска мы добрались на поезде. Бабушка Нюра загадочно молчала.
Как-то краем глаза я увидел вырезку из газеты о каком-то безногом музыканте, но не придал этому значения, потому, как прошло почти десять лет после тех событий в Минске.
Вышли на вокзале и первым делом бабуля подошла к будке, на которой было написана «Городская справка».
Спустя несколько минут мы сели в автобус и поехали.
На окраине города, на конечной остановке мы вышли.
Бабуля несколько раз спрашивала у прохожих дорогу, и мы шли по улице с небольшими одноэтажными домами, аккуратно обходя лужи после дождя, который, судя по всему, прошел тут незадолго до нашего приезда.
Пахло свежестью. Щебетали птицы. Вдалеке виднелась опушка леса и мальчишки, которые гнали небольшой табун лошадей.
Возле облезшей калитки из штакетника, окраска которого, некогда была синей, мы остановились. Я увидел приоткрытое окно, из которого сквозняком качало свернутую узлом марлевую занавеску, слышался звук аккордеона... до боли знакомого аккордеона...
У меня пересохло в горле... Пульс участился и в моей голове стало горячо от прилившей туда крови.
Бабуля постучала и звук аккордеона замолк на полу ноте.
Не узнать его было невозможно.
Перед нами был живой и такой же жизнерадостный мой спаситель!
Я не знаю, зачем наш папа нас обманул, может он на самом деле желал счастья своей дочке, не знаю. Но Миша выжил. Выздоравливал долго и мучительно.
Выкарабкался. На зло всем чертям.
Он очень любил жизнь, и, говорит, именно любовь вытащила его с того света.
Остался преподавать музыку в школе, на окраине Минска. В Одессу решил не возвращаться.
Потом наступил конец сороковых и по всей стране начали прятать инвалидов войны, которые массово, без ног и без рук пропивали свою инвалидную пенсию и клянчили деньги на всех улицах страны.
В стране–победительнице такое было недопустимо.
Так посчитало партия и правительство.
Свозили их неведомо куда. Обратно не возвращался никто. Говорили, что оставляли в санаториях навсегда.
Мише повезло. Ему вручили награду, Орден Ленина, за подвиг в Берлине, где он спас от смерти, говорят, что самого Жукова. Написали статью о его подвиге в послевоенном Минске, вырезку из газеты, которую я увидел в поезде.
Выделили дом в городе. Поставили в очередь на получение новой квартиры.
Потом меня отправили гулять в город, а бабуля Нюра очень долго о чем-то беседовала с Михаилом.
На следующий день мы уехали в Москву.
Язык мне сказали держать за зубами.
Вставал я всегда рано. Привычка с флота.
Жили мы в сталинской высотке к тому времени. Отец занимал уже какой-то пост в министерстве строительства. Переехали мы туда недавно.
Утро было прекрасным. Река, которую было видно из нашего окна, наполняла наш двор не только отблесками солнечного света, а и какой-то неописуемой радостью.
Свежесть, сплетение летних запахов, цветов сирени, свежескошенной травы и вымытых тротуаров, все это вместе со сквозняком, через открытое окно, попадало к нам в квартиру. Родители еще спали. Маша была в ванной. Бабушка уже возилась на кухне.
Городские птицы щебетали свои песни, кто где, кто на проводах, кто на деревьях и кустарниках.
Вдалеке слышались звонки трамваев и ритмичные звуки метл дворников.
Я даже не знаю, что завибрировало первое, окна, мое сердце, или воздух в Москве. Через открытое окно окружила, обволокла песня, которую пел Михаил, спутать его ни с кем было невозможно! Такого голоса больше не было ни у кого в целом мире! Голос не пел, он тихо плакал, потом громко рыдал от тоски и одиночества...
Бабушка замерла на кухне. Я услышал, как резко выключилась вода в ванной.
Я подошел к окну и открыл его настежь, потому звук голоса усилился во много раз и я узнал "Синий платочек". Когда я выглянул из окна, то я оторопел. Посередине двора, в инвалидной коляске сидел с аккордеоном в руках старший лейтенант Любимов. В парадной форме, с тремя боевыми орденами с одной стороны и с Орденом Ленина с другой стороны.
Кругом во дворе слышались звуки открываемых окон. Вряд ли тогда, не то что Москве, а и во всей стране были тогда люди, которые не потеряли в войну своих близких. Потому военные и после военные песни были знакомы всем, да и вызывали они, большей частью одни и те же эмоции. Но зрители не успели зааплодировать, потому что певец сразу запел дальше всё те же знакомые всем и каждому песни... Сталинская высотка стала подпевать, поначалу не дружно, а потом все слаженней и слаженней стали отхлопывать такт очередной песни. С балконов стали раздаваться восхищённые голоса.
Отец, мать проснулись и в пижамах выбежали в коридор, где столкнулись с Машей, у которой в глазах стояло нечто...
Аккордеон разливался всеми своими мехами... Михаил продолжал петь и серебряные колокольчики, из которых, казалось, состоит его невероятный голос, в полной тишине пропел следующую песню:
– Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь...
Здесь аккордеон запнулся, было видно, что Михаил на самом деле вытирал слезы, которые катилась по его изуродованному ожогом лицу... Михаил продолжил:
– Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, черная степь пролегла, между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!
Когда Михаил закончил, наступила гробовая тишина, которую разорвал голос моей сестры, разорвал раз и навсегда:
– ММММММиииииишшшшшшаааааааа.... Ммммишша, Ммишенька! Родной мой!!!
P.S. Маша и Миша поженились через два месяца. У них родилось четверо детей.
До свадьбы моя бабушка не дожила. Но умерла она с улыбкой счастья на лице.
P.P.S. Двор в то утро аплодировал Михаилу почти час.
Голос Михаила услышали маршалы Конев и Рокоссовский и они спустились пожать ему руку, но ее пришлось пожимать через Машу, которая прилипла к груди Михаила, к груди любимого Михаила, безногого, с обезображенным ожогами лицом, но с таким большим сердцем, в котором поместился целый мир по имени Любовь!
Отрывок из документального военно-исторического романа "Летят Лебеди" в двух томах.
Том 2 – "Без вести погибшие"
Краткое описание романа здесь
Если понравилось, вышлю всем желающим жителям этого ресурса
Пишите мне в личку с позывным "Сила Пикабу" (weretelnikow@bk.ru), давайте свою почту и я вам отправлю (профессионально сделанные электронные книги в трёх самых популярных форматах fb2\epub\pdf). Пока два тома, третий на выходе, даст бог.
Есть печатный вариант двухтомника в твёрдом переплёте
Предыдущие мои публикации на Пикабу:
Блокадные Истории – Пупсики
Судьба немецких врачей из концлагерей – Кому нелюди, а кому новые граждане
О единственной женщине из Морской Пехоты – Товарищ Главный Старшина
UPD:
Данный рассказ написан много лет назад для участия в литературном конкурсе имени Симонова, стал финалистом и взял приз зрительских симпатий.
Все имена, фамилии, звания изменены. Все совпадения случайны.
Так же эта история легла в основу моего романа Летят Лебеди.