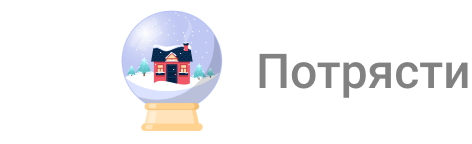Когда я был маленький, то есть уже большой — лет двенадцати, один мой дворовый приятель начитался Анны Аркадьевны Карениной, и так это произведение, видимо, оглушило нежную еще детскую душу, такой тяжестью легло на сознание, что что–то закоротило там внутри Гриши, и так получилось, что некоторое время он стал объясняться с миром и с ближними исключительно в рамках когнетивной системы данного бессмертного произведения, ну, или в побочной какой–то своей собственной интерпретации. Например, всех ближних он обзывал не иначе, как "Ма шер", "душенька", или "сударь мой" если перед ним стояла фигура мужского пола; бабушку он почему–то обзывал "Серж", и когда эта добрая, слабая женщина звала его пить чай перед школой, он, бывало кричал ей, с тоской в голосе: "не экономьте, Серж! Это неудобно! Россия — не плотина, если ее прорвет, то затопит не только землю этим вашим чаем… рухнут и другие!". Короче, Гриша "расклеился", как может быть сказал бы какой–нибудь лекарь из романа, а по–простому говоря, товарищ мой чутка тронулся. Но был еще один случай, связанный с Гришей в этот период его пребывания на земле, и которому я был свидетель. Катались мы как–то с горки на скейтах. Обычно садились на доску на Хрюкина и до перехода ехали целую, почти, остановку, если никто нам не мешал. Но однажды помешали. В тот день мы задержались на горке особенно долго, и бравый отряд гопоты, состоящий из пацанов постарше, выполз нам на дорогу, привлеченный веселым катанием, и отвлеченный от своего сосредоточенного бухания. Загородили нам дорогу, му–хрю, говорят, (ну все как обычно): "дай покататься!"
Я стою, вцепился в свой скейт, думаю уже все–засада. Подходит их старший к Грише.
— Дай прокачусь, жалко?
Гриша оглядел их своим затуманенным взглядом, что–то в уме прикинул, взвесил, и говорит:
— милый друг! Экспансия — это пусть для рабочего хорошо, но нам не подходит. Завтра будьте на этом месте. Хотите на пистолетах — хорошо! Я не боюсь смерти, но не опаздывайте, я ненавижу ждать! Увидите, я выстрелю в воздух и глаза мои будут смеяться!
Потом Гриша по очереди заглянул каждому из господ гопников в глаза, слегка кивая каждому. Когда очередь дошла до меня, то мутноватый взгляд его задержался, но смотрел он как бы не замечая меня, а куда–то сквозь и далеко. Уголки губ его улыбались, но лицо было серьезное, мучающееся.
Потом он попрощался со всеми, сказав: "нам пора!", главный гопник зачем–то пожал ему руку, и мы ушли из этой электрической сцены.