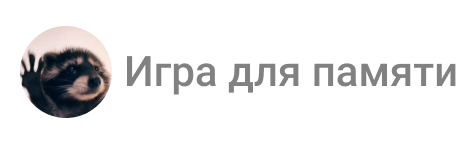- А скажи, дедушка, ты же самый сильный? — у Кощея на каждом колене сидело по пухленькому младенцу, а вокруг притулились еще трое разновозрастных малышей.
Кощей смешно надул щеки, поиграл мускулами, которых, по правде сказать, было у него немало, но ответил правдиво:
— Не знаю.
— Ну ведь ты всех-всех победил, а тебя никто победить не смог? — не отставал синеглазый василисин отпрыск.
— Один раз было. Правда, я и сам понять не могу, победили меня или нет.
— Как так?
— Да вот так. Стояла, вишь ты, в одном сельце избушка, и жил там мужик, а у мужика сколько-то там сыновей. И один из них, как водится Иван-дурак. Дурость же его выражалась вот в чём: день и ночь вкалывал он на поле, щей с матери не стребовал, а краюшкой хлеба бывал сыт, в лес за дровами — он первый, косить — он первый, телегу чинить — он первый, и даже воду из колодца носить (даром, что бабское дело) — он опять первый! Только в одном на задах ошивался — не умел с девками приятного разговору вести. От того и прозвали его дураком.
И кончилось, вестимо дело, тем, что ни одной девке он ни глянулся, так что, куда не засылал его отец сватов, везде был отказ. Так и остался Иван-дурак бобылем.
А тошно жить на белом свете без сердешной подруги! Тошно слушать подковырки родни да насмешки женатых друзей-приятелей! Тошно видеть, как один за другим твои братья обзаводятся собственным домком и ребятишками!
Думал-думал Иван-дурак, да как-то в лютую зимнюю пору, в самый пост, когда в голову лезут сплошь мрачные мысли, и надумал: отошел в лес подальше, выбрал крепкий сук, распоясался, да из пояса-то и приладил петельку...
Внуки Кощея сидели, не шелохнувшись и следили, как вслед за движениями сухих рук колдуна тени на стене превращались в заснеженный лес, отчаявшегося парня и петлю, свисавшую с осины.
— И так бы и повесился, если б не проходила той порою по лесу снежная дева. Увидела она дурака, приблизилась к нему, да и поцеловала в самые очи. А кого снежная дева увидит, да поцелует, тому страшная беда будет. Позабудет он дом, родных, всё, что любил и чему верил, и станет верным рабом проклятой чаровницы. Зачнет делать всё, чего она ни пожелает и не остановится, пока волю ее не исполнит.
А в те времена был у меня спор со снежной девой не на жизнь, а на смерть. О причине его я уж и позабыл, по правде сказать, а только дошло до того, что чёртова кукла поклялась извести меня с белого свету и только и делала, что подсылала ко мне наемников да богатырей, суля им девиц-красавиц, горы золота, всемирную славу и прочие бесчисленные блага. По правде сказать, все это были враки, ибо ничем, кроме льда и снега, колдунья не владела, потому что ее холодное сердце привлекала только одна страсть — власть над людскими душами...
Тут Кощей хлебнул из богато украшенного кубка настоя стеблей аира и продолжил.
— А в те поры, надо вам сказать, по всем сказочным землям ходила байка, будто одержать надо мной верх может только простая душа. «Кто же может быть проще Ивана-дурака!» — подумала снежная дева и велела несчастному парню идти в тридесятое царство и прибить меня. — Тут Кощей еле заметно усмехнулся.
— Тот и пошел. Валенки до дыр стёр, питался по дороге, чем придется, милостыню просил, на подёнщину нанимался, бывал бит, бил других, зарос бородой и волосами, как снежный человек, но дошёл-таки.
— И вы бились-ратались? — спросила круглощекая румяная девочка в синем сарафане.
— Не-а. Видишь ли, пока он шел, случилось так, что со снежной девой я замирился — не замирился, но пришел к согласию. А тут стучится этот в ворота (тогда еще у тридесятого были ворота) и вызывает меня на бой. Глаза бешеные, шевелюра всклокоченная — одно слово, зачарованный дурак!
Пришлось выйти. «Чего, — говорю, - Ванюша, тебе надобно? Аль я тебя обидел чем? Али не потрафил кому?»
Не слушает — пуще буянит, роет землю ножищами, как сивка-бурка, того и гляди, забор по досочкам разметает — силой-то бог не обделил.
Думаю себе: лаской не вышло, попробую к разуму воззвать. Уж я его и так увещевал, и эдак, и Сенеку вспомнил, и Фому Аквинского, и даже Мильтона наизусть читал (в собственном, естественно, переводе). Все пытался разъяснить ему гибельность его предприятия.
«Бессмертный же я, — говорю, — дурья башка, не понимаешь, что ли? Ведь костей не соберёшь, ежели я только дуну на тебя!» Не поддается логике.
Ну, делать нечего. Решился я прибегнуть к самому распоследнему средству.
— Наслал на него огненного дракона? — зашумели внуки. — Стрельнул в него сонной стрелой? Посулил исполнить три желания?
— Нет, — усмехнулся еще раз Кощей. — Оборотился я исправником. Как есть при мундире, с саблей на боку, с напомаженными волосами, красной шеей и яростными усами. Глаз оловянный, смотрит скрозь собеседника, а речь — и не речь вовсе, а навроде гавканья.
«Ты это что? — ору, выпятив грудь. — Ты это на кого? Да ты, свинья, знаешь ли, что супротив властей замышляешь? В Сибирь! На каторгу! Сгною! Запорю!»
Смотрю, а у Ивана-дурака ноги подкосились, глаза заметались, рухнул он на колени и взвыл «Не вели казнить!».
Тут я, конечно, наподдал ему кованным сапогом по мягкому месту, но потом смилостивился. Сотворил из воздуха пару урядников, да и велел сопроводить к месту проживания на казенный счет. И так он в этих урядников поверил, что, хотя они и были мороком невесомым, шёл до самого дома в полной уверенности, что его конвоируют.
— А как же заклятье, дедушка?
— Да какое же заклятье выстоит супротив той силы, какой на Руси обладает государев человек? Особенно, если зачарованный - Иван-дурак?
Впрочем, я его не обидел. Сделал так, что приглянулся он в своей деревне одной вдове, да и обженился на ней. И, хоть было у неё четверо детей от прежнего мужа, да Ивану она принесла еще с полдюжины, и покою он так и не узнал, а продолжал вкалывать день и ночь, все-таки можно сказать, что жизнь его удалась.
Но случай тот я, скорее, не в победы свои, а в поражения заношу.
— Почему, дедушка?
— Потому, что распоследнее это дело — быть исправником, пусть даже и поддельным, пусть даже и на пять минуточек. Любому человеку, а уж, тем более, мне — властелину тридесятого — поношение.