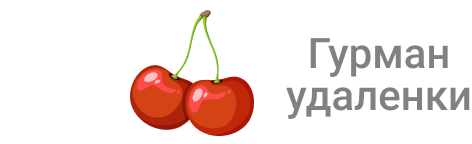Мы часто ходим вдоль моря, в полосе прибоя или по сухому, еле тёплому песку. Море редко бывает спокойным. Ворчит и ворчит, и кидает на песок белые, кружевные обрывки – пивную пену, узоры ненаписанных стихов, ноты песен никогда не спетых. Вот десять тактов хорала Палестрины, вот страница венского кроссворда, на обороте которой Шуберт набросал финал восьмой симфонии.
В этих краях нет никого, кроме ветра, моря и песка. Наш дом из горбыля, старых рыболовных сетей открыт ветру и шуму моря; и составлен больше из щелей иногда в руку толщиной. Спим – ли мы в нем? Едим – ли? Право, не знаю. Не помню… Каждый миг бесконечен. Мы ходим, наши ноги утопают в песке, говорим и не наговоримся… Приятное бремя – никогда не насытиться разговором.
Вот – вот уйдёт солнце за горизонт, вот – вот бледно разгорятся первые звёзды. Песок остынет, подует ветер с моря, разразится шторм… Но никак не найдём мы последних слов, никак не скажем самого – самого важного и только говорим – говорим, не наговоримся. И не увидим первых звёзд, и шторм не исхлестает море, и солнце не утонет в страшной глубине на горизонте – не раскалит закатные воды. И не уйдём заканчивать день ужином и любовью. Дремота под стук ходиков, апатия и лень придёт поздним вечером в другой дом приговаривая: - Стук – сток, сук – бок, мак – рак, так – да не так, мрак – мрак, тик – так, тик – так, тик…
- Так! Сколько мне здесь сидеть? Куда она запропастилась?
- Посиди ещё. Не может же она весь день пробегать? Таня забежала к нашему завучу с поручением. Завуча не было. Был я – пристёгнут к Вельтмейстеру, как гребец к триреме. Таня осталась подождать. Уселась в уголочке. Была у неё одна черта – оцепенеть, смотря сквозь тебя в бесконечность. Что со мной говорить? Меня из-за аккордеона не видно. Восемьдесят басов будь они все неладны. Так и смотрела сквозь аккордеон, меня, стену. Какие рождения сверхновой видели её глаза цвета спелого крыжовника? Какие уравнения с шестнадцатью неизвестными решались в её светлой голове? Танюша. Лучшая по математике в классе. Танечка, которая так редко улыбалась. Маленькая, почти ребёнок. Я знал каждую веснушку на твоём лице. Я хотел бы вывести формулу, по которой строился бы твой профиль на системе координат. Я не сделал бы ни одной ошибки. Я чувствовал каждую точку твоего выпуклого лба, маленького носика, упрямого подбородка; но алгебру знал на тройку. Я сел бы за формулы и подсчитал бы в люксах и люменах световой поток и силу освещённости от твоей редкой улыбки. Но формулы нагуглил слишком поздно.
- Мне скучно! Голос капризный. Таня красиво надула губки. – Что ты сидишь с этим дурацким аккордеоном? Как черепаха, ей богу!
- Елена Сергеевна ушла, и сказала учить Брамса, иначе влепит двойку.
- Дураки вы все! И ты, и твой идиотский Брамс! Отражение туманности Андромеды снова появилось в её глазах.
- Танечка, ну хочешь я тебе стихи почитаю?
- Не люблю я твоих стихов. – тихо, из другой галактики донёсся её голос – Ноешь всё: люблю, страдаю. А я такого не понимаю. Ах! Я бы писала стихи на языке математики. Там такие поэмы можно сочинить!
- Ну?.. Но Таня уже выходила на орбиту Сатурна.
- Учи, что – ли, своего вонючего Брамса.
- Таня? А тут премьера в театре. Звезда эта… Как её? Безымянная. Хорошая постановка и музыка живая. Может пойдём?
- Дурачок ты! – она улыбнулась. – Мы же всё выяснили. Я тебя не люблю
- Таня!
- Не люблю и всё тут! Не приставай.
- Но ты же мне книжку подарила! Мандельштама, да ещё и с надписью. И стихи мои взяла. Я целый венок сонетов написал. Две недели старался...
- Ну подарила… Ах! Я иногда сама своих поступков не понимаю. А стихи я потом прочту. Может быть. Приволок кипу бумаги. Зануда! Скука смертная. Таня показала мне язык и, наверное, уже читала в уме таблицы Брадиса.
«Хорошо тебе» подумал я, «вредина, ты эти таблицы наизусть знаешь, и щеголяешь этим на алгебре и приводишь алгебраичку в восторг». Брамс, вонючий вредный старикашка, когда я твой танец выучу?
Дооо – Фа… Блин, три диеза. Ещё раз
Дооо -диез, Фа- диез, ля... Ох, какое неудобное переложение. Теперь двумя руками
Дооо -диез, Фа- диез, ля. Минор, минор, минор…
- Сколько можно мучить инструмент? Твоим «Брамсом» можно людей пытать. В дверь, сияя румянцем, ввалился беременный аккордеоном Эдик.
- О, Танька, здорово! Что вы тут уединились? Секреты всё? Смотрите – Эдик захохотал – как бы детей не приключилось. Таня наградила его дураком.
- Заходи, Эдик – входил я в роль хозяина – Ты тоже к завучихе?
- Ты тут за секретаря?
- Ага. И. О. Царя Бунша И. В.
- Слышали? – Эдик упал на стул – Опять конец света объявили!
- Третий уже? Прошлый мы на алгебре пересидели. Помнишь, Таня? Таня долго смотрела на меня издалека. Глаза её совсем позеленели от мечтаний. Наконец, фотоны отразились от моей фигуры.
- Глупости! – злым голосом сказала она. – Ещё раз вам повторяю, не верю я в эти вонючие концы света! Я всё подсчитала – конца света не произойдёт. Земля переместится в параллельное измерение после столкновения с чёрной дырой. Через тридцать один год. Эдик выразительно посмотрел на меня
- Истинно вам говорю 4 мая 1921 года земля налетит на небесную ось – мы все засмеялись.
- Да. – Тихо сказала Таня. По моим подсчетам это произойдёт в 2025 году.
- Расчёты – отсосёты… - Эдик заалелся, как маков цвет. – всегда тебе, Танька, говорил, что ты с придурью.
Мне вдруг стало очень грустно. Тридцать один год! Такая прорва времени. Где будем мы? Что станет с Танькой?
- Да, ребзя, какие мы будем старые. Мне будет сорок пять лет.
- Развалина ты уже будешь! – презрительно сказал Эдик. – Вот я буду молодцом. Построю дом в деревне, баньку, кузницу и буду ножи ковать. Сильный, здоровый. Ручище – во! Бородище – лопатой. А ты, хлюпик, сопля интеллигентская – плесенью покроешься и будешь ходить, попёрдывая, песком посыпая всё вокруг.
- Ну знаешь… - приподнялся я, насколько позволял аккордеон. – Сам ты пердун и оглохнешь в своей кузнице. Будешь глухой тетерей с ручищами и бородищей
- Мальчики, - тихо окликнула нас Таня – Потише, не шумите. Почитай лучше стихи.
- Валяй, - сказал Эдик – читай. Всё развлечение.
- Как бабочка летала, накрывая стол…
Ах, я залюбовался красотою скрытой,
Почувствовав светящий ореол…
Да, ореол. Несколько недель назад была Танина днюха. Мы собрались у неё дома. Танюшка принимала нас картошкой с ножками Буша, чаем и бутылкой шампанского. Тогда я и написал эти стихи, любуясь спорыми ножками в полах джинсового сарафана. Маргаритой вообразил я её, а себя доктором Фаустом. И вот, мы танцуем с ней не медляки Стинга, а гальярду. Чадят факелы. В камине шкворчит ягнёнок на вертеле. Музыканты навеселе наяривают танец. И мы раскраснелись от вина, отплясываем, раз за разом всё нежнее и нежнее глядя друг на друга. За этими мечтами я и просидел весь вечер на полу, почти не танцуя. Эдик, пользуясь временным отсутствием девочек, рассказывал о том, что у него это было в первый раз.
Сравнил тебя невольно с Маргаритой.
- Кого? – Захохотал Эдик – Таньку? Слышишь, Таня? Этот «Ромео» тебя с другими бабами сравнивает.
Первый раз Таня взглянула на меня тепло, почти ласково.
- Хорошие стихи. Спасибо. Ты мне потом их дочитаешь. Маргарита? Булгаков?
Я кивнул. Внезапно пересохло во рту и под ложечкой разливался кипяток.
- Наверное… Может быть… Нет… Нет! Гёте!
Таня засмеялась. Должно быть, у меня был совсем нелепый вид. – Ну ладно, Гёте – так Гёте. Ой и насмешил ты меня. Посмотри в зеркало. Ты ведь красный, как креветка.
- Точно! – захохотал Эдик. – Caridea Decapoda.
- Сам ты Аскарида круглая!
- Фу! – скривилась Таня – Мерзость какая!
- Вот, лучше, послушайте – сказал Эдик, вытирая слёзы. Обычно румяный, как очень крепкий и здоровый юноша, он совсем раскраснелся – Увертюра Дунаевского. Очень сильная музыка! Он внезапно посерьёзнел, возвёл очи горе, что – то вспоминая, и рванул мех от себя. Зарокотал первый соль – диез и на нас Танькой обрушился каскад уменьшённых септаккордов. Как волна об скалы. Запахло йодом, повеяло солёным, холодным ветром. Аккордеон Эдика рычал львом, самым большим органом под руками старого Баха. И уже пошла разматываться главная тема – пока такая скромная, тихая и неторопливая. Но постепенно, под рокот труб, набирала упругость и силу, возносилась, на крыльях модуляций, всё выше и выше. И уже летела туттийная, на всех скрипках, вдоль тридцать седьмой параллели за капитаном Грантом. Вдаль, к австралийским берегам.
Таня, Танечка, Танюша! Где твои глаза? Что с ними? Что с тобой, моя любовь, мой цветочек? Грустная, осенняя хризантема. С таким взглядом не слушают увертюры Дунаевского. Такими глазами не мечтают о дальних странствиях и неизведанных землях. Такими глазами смотрят на любимого человека, на слепо любимого человека, безумно любимого мужчину. Любимого до головокружения, до дрожи в ногах.
Вошла Елена Сергеевна аккурат к началу средней части. Волшебство пропало, закрутилась рутинная административная ерунда. Эдика попросили вернуться в свой класс. Меня выставили в коридор, пока решалось Танино поручение.
На подоконнике сидеть было неудобно. Как я ни пытался примоститься – болели голова и жопа. На душе стыла промозглая осенняя слякоть. Холодно было, тошно и нудно. Почечным камнем мучила мысль, не мысль даже, а грозовое электричество: «Я никому, никому не нужен. Я одинок, оставлен посреди пустыни. Некому даже сказать: - Отойди от меня, сатана». Пойду бродить лесами вдоль бурных потоков. Кормить диких зверей. Созерцать в самой глубине леса водопады, низвергающие с рёвом тонны воды на обомшелые камни.
В этот момент с рёвом и грохотом обрушилась на обомшелые камни вода. Чистый молодой тенор пробился через шум волн.
-… бросается.
Будь осторожен
Триппер возможен.
Раскрылась дверь кабинета, на котором, обычно, не прибивают номера. Встряхивая руками после омовения, вышел Эдик.
- А, Ромео! Не грусти, Ромео. Всё у нас будет заеBeatles! Бывай! «Я хотел утопиться в реке, найти покой на морском песке,» песня летела бетонными коридорами, мелодия рикошетила от стен, а его молодой тенор затихал за поворотом. – «но, как на зло, мимо плыл водолаз. Взял меня он и спас…» Последних слов я уже не слышал: по лестнице спускалась Таня.
Солнечные лучи падали на неё сбоку. Вся её невесомая фигурка светилась. Искрились каштановые волосы. Из глаз вырывалось золотое сияние. Сердце тяжело заныло. Так я и смотрел, как солнце на руках спускало её по лестнице, и Таня плыла, не касаясь янтарными ножками ступенек.
Как болит сердце. Как ноет. Как мучительно пронзили его солнечные лучи. Теперь сердце моё стало прозрачным и читал я в нем, ещё не понимая, грустные предвестья. О нраве моём грубом и сумрачном. О том, что ни одной любимой женщине не принесу я счастья, а только мелочные обиды, желчь и слёзы. Что буду бегать за химерами: грезить о звёздах днем, а о снеге летом. Люди будут бежать меня, жизнь, яркая и живая, втянув живот, протиснется мимо, оставив жёлтые листья осени и пепел детских фотографий.
- Ну что ты тут сидишь, глупенький? – Таня погладила моё лицо прохладными ладошками – Пойдём погуляем.
Таня легко запрыгнула на подоконник и потянула на себя створки окна. Окно распахнулось, словно его толкнули извне. Танины волосы рассыпались по ветру, запахло аптекой и свежей арбузной корочкой. Взявшись за руки, мы ступили в ещё теплый песок. Недалеко шумело море. Солнце вот – вот должно было закатиться. Дул бриз. Мы сидели у небольшого костра. Таня, подтянув колени почти к самому подбородку, молчала и задумчиво смотрела на линию горизонта. Костёр горел почти бесшумно, только разгорался сильнее, когда в него попадал очередной пук сухих водорослей. Я бросал их почти машинально, а сам смотрел и смотрел на Танюшкин красивый профиль. Она была вся кругом загорелая, даже маленькая грудь, которую было видно в разрез туники. Лицо щедро – щедро украшали веснушки.
- Танька, а Танька, что со мной случилось? Так больно было!
- Не знаю. – ответила она тихо, не глядя в мою сторону. – Любите вы, поэты, себя жалеть и рядиться в трагические тоги.
Я обрадовался: — Значит, всего этого не будет, ни обид, ничего?
- Откуда я знаю? Может будет, а может всё у тебя будет хорошо.
Я взял её руку, поднёс поближе и прижался щекой к тыльной её части.
- Танюшка, а ведь не будет у меня хорошо.
- Почему? – спросила она
- Ты ведь меня так и не полюбишь
- Конечно, полюблю! – она убрала руку и повернулась ко мне. – Уже люблю и всегда буду…
- Но мы всё выяснили…
Таня отвернулась от меня и бросила в огонь ещё водорослей. – Это мы там выяснили – махнула она рукой куда – то неопределённо – Ну что? Ты рад? Я долго думал, шевелил палочкой в костре, молчал и не знал, что ответить.
- Наверное, – неохотно сказал я наконец – но грустно это всё.
Танюшка молчала и только ветер свистел и завывал и в его свисте или в шуме волн слышались мне слова:
О юноша! Ты вечно будешь петь.
Деревья никогда не облетят.
Влюбленный! Не упьешься негой ты,
Вотще стремишь к любимой страстный взгляд.
Но не умрет любовь твоя и впредь,
И не поблекнут милые черты. [1]
Кто – то давно тормошил меня за плечи.
- Ромео, очнись – услышал я Танюшкин весёлый голос
- А!.. Я и не сплю! Нет. Не сплю
- Ну, ты что? Еле тебя добудилась! Замечтался?
Я потряс головой – Нет. Нет! Это так… солнечный удар.
- Да? – Таня выразительно посмотрела на небо, обложенное тучами.
- Ну – ну… Иди, тебя Елена Сергеевна ждёт.
[1] Джон Китс Ода к греческой вазе