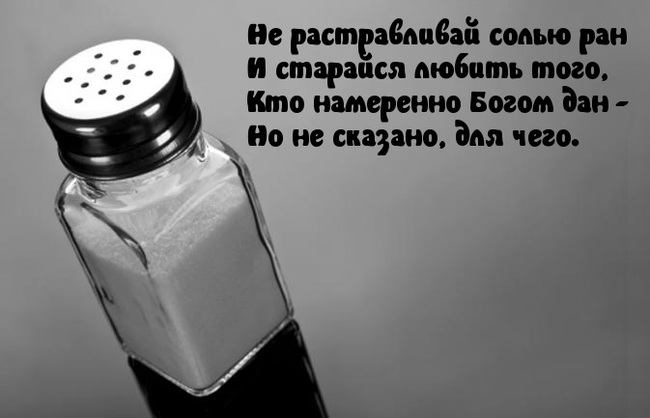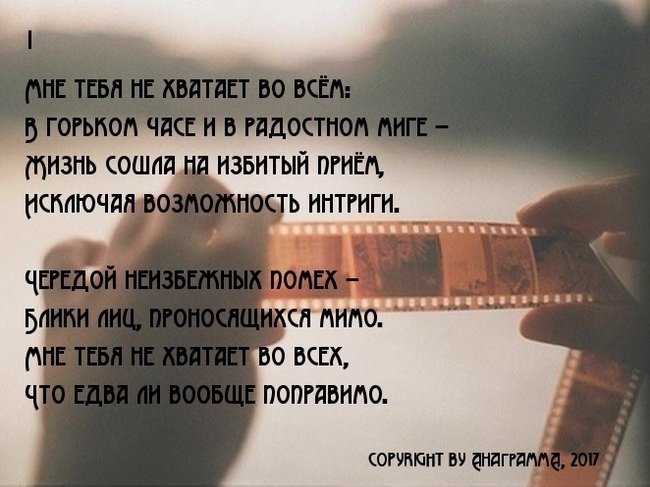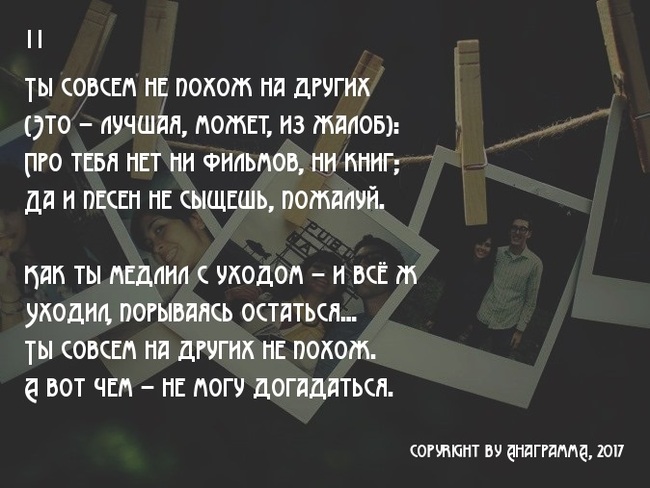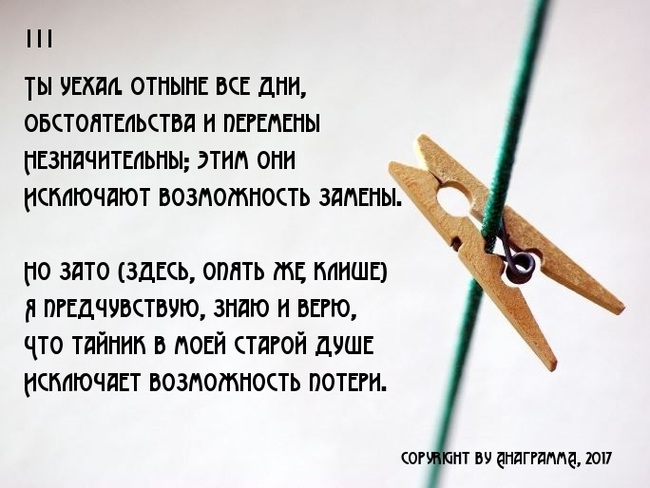В некоторых комментариях (а также в кое-каких личных отзывах, полученных от друзей) я столкнулась со следующим явлением.
В большинстве своём люди, далекие от подобного опыта (а иной раз – даже не столь далекие от него), склонны недооценивать получаемые ребёнком в таких условиях моральные травмы. Типичные реплики этих людей: «Но зачем ты всё это вспоминаешь, раз это больно? Что тебе это даёт? Возьми и забудь!», «А разве это важно сегодня? Живи своей взрослой жизнью, тебе ведь уже не мешает никто», «Да, допустим, всё это было с тобой. Ну… и??? И… что???», «Нечего вешать свои проблемы на родителей/воспитателей/учителей… Ты можешь взять и порешать свои проблемы самостоятельно. Ты ведь уже взрослый человек, а это по определению означает, что ты теперь в силах и в состоянии это сделать». Ну и на крайняк: «Ах ты, бедненькая моя!..».
Всем этим людям почти удалось убедить меня в том, что я как писатель и неравнодушный к миру творческий человек делаю ненужное дело, говоря о проблемах неблагополучных семей, которых в России несчетные сотни и тысячи, через призму взгляда ребёнка с опорой на щедро отпущенный мне жизненный опыт. Что эти проблемы если и не надуманы – то, по крайней мере, слишком преувеличены.
Хочу привести вам одну неожиданную параллель.
На днях я была на читке пьесы Жанар Кусаиновой «Они пришли… Или Самый Первый Мирный День». Это документальная пьеса о детях войны – о детских переживаниях, про которые вспоминали взрослые люди лет 35-ти. В предисловии к ней сказано так:
«В этой пьесе не будет никаких признаков национальности, религиозной, расовой принадлежности. Я убрала все это ради того, чтобы читатели-слушатели-зрители увидели среди моих персонажей только детей. Детей. И все».
Рада бы изложить это своими словами, но в кратком изложении этого не передать. Если вы не прочитаете дословно то, что услышала я – то вы едва ли поймете. Поэтому позволю себе в данном авторском посте процитировать отрывки из некоторых монологов.
***
Мне было 7 лет, ничего не помню, у меня просто чистый лист, черный квадрат Малевича. Войны не помню, хоть убей. Может, просто настолько там было кошмарно (а как еще может быть на войне), что у меня просто психика решила посредством такой амнезии защититься. Стерлась память о войне и все. Да кому это теперь нужно?
Но если бы я помнил, если бы это открыл, то, наверное, я был бы целым. А пока я не чувствую себя целым. Как будто вместе с тем черным квадратом из меня вынули что-то важное, часть меня.
***
Больше всего меня удивляет, что я могу про это говорить, что это было в прошлом. В другой жизни. Иной раз мне кажется, что это все случилось не со мной. Как будто это не я. Даже не знаю, существую ли я. И что такое «я»? Границы стерлись настолько, что если кто-то спросит меня обо мне… какая ты… я не смогу сказать…
Наверное, это потому что, так хочется спрятаться в этой потерянности.
***
Мне было 13 лет. Помню… постепенно у тебя проходит страх перед смертью и мертвыми. В какой-то момент перестаешь бояться всего этого. Все равно становится, умрешь, не умрешь.
Я честно скажу, в те дни вообще себя не ощущал, как будто меня нет. Наверное, это личность стирается. Такая анестезия в душе происходит. Когда себя перестаешь ощущать, то тебе кажется потом, что это не с тобой было. А если не с тобой, то не больно. Душа не болит, если не с тобой.
***
Во время войны чего хочется? Даже не хлеба там, ни тишины, даже не того, чтоб не стреляли. Хочется невидимой быть, и чтоб забыли про тебя, не трогали. Чтоб даже не видели тебя, хочется воздухом стать, улететь куда-то. Больше всего хочется. И не помнить, не понимать. Хочется, чтобы как будто тебя не было никогда. И после войны тоже так хочется. И теперь я так хочу. Мне тогда было 11 лет. Одиночества так хочется. И всегда не хватает.
***
Мне нравится ремонтировать часы. Когда сижу один за столом и ремонтирую, я… (пауза) никто не подойдет, не надо напрягаться, разговаривать… Честно говоря, я не могу с людьми… мне трудно… я видел… мне было 14 лет… там… я там был. Нет никакой обиды, злости, ничего. Только внутри… Я не могу с людьми.
Не женат, детей нет. Не могу я с людьми. Не могу. Я на работе только менеджера вижу, он приходит, отдает заказы, забирает готовое, уходит. Мы с ним почти не разговариваем.
***
Была я там. И что? Вроде как жива, насчет здоровья… Это не важно. Я в порядке. Ну как могу. Да я могу из любого подвала самый уютный дом сделать, из любых продуктов, пусть даже испорченных, – вкуснотень невероятную, пальчики оближешь. Из любого тряпья – теплую одежду на зиму.
Все могу, все умею. Я хозяйка на сто процентов, лучше не найдете. Живу одна. Мне так лучше. Честно скажу, тоскую я по тем временам. Как-то ясно тогда было, кто куда, кто враг, кто друг, куда бежать. И все было по настоящему, а сейчас, какие-то все придуманные, наигранные. Врут без остановки, выпендриваются. Завидуют друг другу. И пыль друг другу в глаза пускают. Ярмарка тщеславия. Лишь бы… лишь бы…
Мне тогда было 14 лет... А жизнь-это война и есть. Когда ты все время на стреме, с ножом в руке. Или ты, или тебя. Все остальное - фигня и лажа.
***
Мне было 10 лет. У меня с собой был кулек. Я уже была большая девочка, я знала как и чего бывает у мужчины и женщины, ну я про это, я и групповые изнасилования видела, у нас соседскую девчонку изнасиловали так, я сидела на чердаке, слышала все, понимала что к чему. Я видела, как она умерла. Но у меня с собой был кулек. А в нем ягоды, ядовитые. Я знала точно, вороний глаз. Достаточно три-четыре сожрать, чтобы коня двинуть. Я носила с собой, мол, если чего, живой не дамся. Это же быстрая смерть.
Теперь живу тут. Честно работаю, не ворую, замуж не вышла. Нет, никогда ни с кем не встречалась. Не влюблялась даже. Мужики говорят, что я как отмороженная.
Отмороженная.
У меня был кулек. А в нем ягоды.
***
Больше всего меня шокировало. Когда мы оттуда выбрались, приехали сюда, где нет войны, меня шокировало…меня шокировало… Только не смейся... (пауза, долгая нерешительная) Понимаешь, я сижу у окна и могу в окно смотреть, и не бояться… Я могу просто на улицу идти, гулять.
Но и это еще… меня шокировало, что я могу взять еду и есть ее, и никто не отнимет. Можно пойти и купить себе мороженное. Суп сварить. Надеть яркую одежду. Смотреть мультики, прогуливать школу. Мне было 9 лет. И меня все это шокировало.
***
Больше всего я запомнил чувство страха. Страх он повсюду, он как воздух, которым ты дышишь, он в коже, в волосах, в легких, в крови. Как же сказать… не знаю. Просто с тех пор, я не могу отделаться от этого чувства. Страх. Страх. Я просто не хочу жить, понимаешь, для меня это возможность уйти, завершить историю, прекратить вспоминать то, что со мной случилось. Я не хочу жить. Понимаешь, самые простые вещи приводят меня в ужас. Пройти по открытой площади, оказаться в толпе, обратиться к незнакомому человеку, спросить дорогу, идти по улице…
И самое страшное – любое прикосновение, даже случайное.
Я поэтому очень редко катаюсь в общественном транспорте. Вообще чувство опасности - преследует. Мне до сих пор иногда кажется, что меня хотят убить. Я понимаю, что это уже болезнь. Мне кажется, что еда отравлена, что за дверью меня ждут они, что они пришли… Понимаешь? Они пришли.
***
Здравствуйте. Я вас помню. Конечно, помню. Вы насчет… да. А курить у вас есть? Прекрасно. Да мне любые. Не, жрать не надо мне, не хочу. Не могу. Врачиха говорит, что у меня нарушения какие-то. У меня ведь всех. Они пришли, и! Они пришли!
Врачиха говорит, это у меня чего-то там, а не помню что она там мне говорила, слово какое-то длинное, с чувством вины связанное. И поэтому я себя терзаю. Руки режу, волосы себе прошлый раз подожгла. Нравится мне. Успокаивает. Еще я вот, не жру не хрена. Стыдно жрать, когда их нет, мамы моей, отца и брата, сестер и никого. А я живу. Стыдно.
***
Войну пережить нельзя. Все равно остается с тобой. Все равно как главная точка отсчета. И пусть говорят вам, что мол, давно было, не помню ничего. Помню. Всегда. У меня так.
Войну пережить не возможно, с ней можно только умереть. Она все равно остается, как часть тебя, как например то, что у меня руку ампутировали, после ранения. Я себе конечно протез куплю, ну когда накоплю. А так, ну посмотрите сами, ну как мне вот это вот пережить? Что я могу изменить? Ни-че-го.
Лицо мое… да нет, не нужно, я вижу, что вам неприятно на меня смотреть, покорежило меня тогда крепко.
Но ничего. Главное жива осталась. Тоже хорошо ведь. Хорошо?
***
Пьесу читали дети 17-18 лет. Их возраст был выбран режиссёром специально – поколение, незнакомое воочию с войной. После прочтения они и три ряда зрителей обсуждали текст с режиссерами читки. Зрители, впрочем, преимущественно молчали. Парень-чтец воодушевлённо сказал, что об ужасах войны нужно помнить и не допускать такого. Его сверстница задумчиво добавила, что нужно хотя бы пытаться сочувствовать прошедшим через такое людям. Все шестеро читавших монологи детей признались, что текст оказался малопонятен им и совершенно не близок.
Режиссеры читки, выслушав эти ответы, пришли к наглядному выводу, что современный человек, не побывавший на настоящей войне, не может понять войну, почувствовать её, пропустить ее последствия через себя. Поэтому, рассудили они, сейчас даже нет хороших фильмов о войне – молодые актёры и режиссеры от этого чересчур далеки!
Я была просто поражена этим текстом. Но чуть ли не настолько же сильно я была поражена всеобщей отстраненной, похожей на размышления каких-то инопланетян, реакцией на него. Когда я собиралась на читку, мне и в голову прийти не могло, что я, именно Я внезапно восприму эту пьесу ТАК – потому что в этих коротких, бьющих по сердцу наотмашь историях переживших войну детей я УЗНАВАЛА СЕБЯ.
Им трудно это даже ВОСПРИНЯТЬ и ПОНЯТЬ. А я узнавала себя.
Я дословно узнавала себя в КАЖДОМ из приведенных выше отрывков. Вот почему я отобрала именно их – те, где со скрупулёзной точностью описывались переживаемые мной… нет, не столько сами события – но скорее точно такие же чувства, состояния, эмоции. Некоторые из них были со мной несколько лет назад, а сейчас немножечко поутихли, а некоторые – ярки до сих пор.
Я не смогла промолчать, и прокомментировала, что на меня это наоборот оказалось похоже. В том, что он увидел в пьесе себя, больше из зрительного зала на все три ряда (а это человек, наверное, 30) не признался никто.
В пьесе были ещё и другие отрывки – значит, мне достались не все варианты развития событий. Но скажу вам сразу: хороших среди них почти не было. Вот, пожалуй что, наилучший:
***
Когда я была там, мне было 11 лет. Ничего не хочу рассказывать про то время. Так можно? Окей. Закончила педагогический. Работаю в школе, в младших классах. Нареканий нет, с коллективом отношения у меня хорошие. Замужем. Жду ребенка.
У меня все хорошо. Вы мне верите? Это хорошо, что вы мне верите. Хорошо. Только я ничего рассказывать не буду. Про то время. Не буду.
Когда рожу, у меня будет комната для ребенка, вся доверху игрушками забитая. Прямо вся. И чтобы по всему дому игрушки и воздушные шары. А еще, я вот холодильник люблю забить битком продуктами. У меня муж богатый. Приду домой с работы, холодильник открою, а там продукты. Еда. И всё мое, всё наше. И я если захочу, то сколько угодно ем. Полную тарелку наложу, и запах горячий нюхаю. Мне даже есть необязательно, просто запах горячий чтоб. Люблю, когда дома едой пахнет. В доме всегда должно едой пахнуть.
И чтоб игрушки по всему дому валялись. Самые лучшие при том.
И еды полный холодильник.
И в шкафу теплая одежда, новая, лучшая. Крутая.
В окно выглядываю, а там погода отличная. У нас тихая сторона улицы, под окнами деревья. Я выхожу и гуляю сколько угодно. Я люблю. И никто не тронет, не обидит.
У меня все хорошо. У меня теперь всегда все хорошо. Всегда.
***
Описание всего этого благополучия отчего-то звучит больно.
Если, как рассудили режиссёры этой экспериментальной читки, только такое страшное, ПО-НАСТОЯЩЕМУ СТРАШНОЕ бедствие, как война, способно оставить на детских душах ТАКОЙ неизгладимый уродливый след, с которым человек при всём желании уже не расстанется до конца своих дней и который не получить больше нигде, а со стороны – не дано понять никому…
…То хотела бы я знать: как получилось, что всем окружающим меня людям на той читке всё это оказалось и впрямь не близко, а я – узнавала себя?..
Я никогда не была на войне. И никогда не бывала в «горячих точках» – я не провела там ни часа за всю свою уже почти 30-летнюю жизнь.
Я (как считают некоторые, всего-то навсего!) росла в неблагополучной семье. Другого объяснения этому высвеченному сходству и в то же самое время поразительному различию я просто не нахожу.
Моя семья прошлась по мне, как война.
З.Ы. Несмотря на то, что из 40 присутствовавших на читке узнала себя в тексте
(будем верить людям на слова) одна я - я такая, конечно же, не одна. Детей, растущих и выросших в точно таких же страшных семейных условиях, по сей день и абсолютной в любой стране мира существует тысячи. Понимаете, тысячи.
Манифест «детей войны» мирного времени.
Да, мы – другие.
Да, мы – не по вашу сторону баррикад.
Да, мы иногда можем вести себя и чувствовать себя, по сравнению с вами, странно.
Но. Мы прежде всего – люди. Мы люди точно так же, как вы. Если бы каждый из вас когда-то испытал на себе наши условия и обстоятельства – то вы бы сейчас были точно такими же, какими теперь стали мы. Если бы мы никогда не были в тех условиях – то мы бы сегодня стояли с вами плечом к плечу и точно так же тупо не понимали, как относиться к людям-осколкам, к тем самым «детям войны», а я бы сказала иначе: «к детям любого сильнейшего неблагополучия». Если ставить между двумя этими терминами знак «равно», то пожалуй, что режиссеры читки действительно правы: невозможно понять войну, если ты на ней не побывал.
Нет, нас не надо жалеть.
Нет, наши страдания не заразны для вас – если вас всё это цепляет, то в ваших умах и душах натянутыми струнами звенит только ВАША боль, зазвучавшая как камертон с нашей болью, о которой вы прочитали или услышали. Собственной боли хватает у каждого из живущих. Не стоит открещиваться от своих чувств. То, что чувства существуют и стремятся говорить о себе – это нестрашный факт. Надо принять их такими, как они есть. Дороже наших чувств у нас нет ничего. Это и есть душа.
Нет, мы не в состоянии преодолеть некоторые слишком глубокие травмы и «жить как все нормальные люди». И не надо убеждать нас в обратном. Если бы мы только могли – то поверьте, мы бы всё это преодолели. Мы справляемся с тем, с чем только можем, и так, как можем. Но мы едва ли способны сбежать от вросшей в наш организм данности мрачного прошлого и измениться совсем. Мы вряд ли когда-нибудь станем понятными и удобными, и впишемся во все ваши «нормальные» рамки – для нас они ненормальны. Разрешите нам жить, как умеем, и быть такими, какими у нас получается быть. И оставьте нас, наконец, в покое. Позвольте нам быть одинокими, если мы этого так хотим.
Ну и наконец самое главное. Ни на секунду не забывайте, попробуйте осознать: вам действительно по-крупному повезло в этом мире, если вы – не по нашу сторону баррикад.