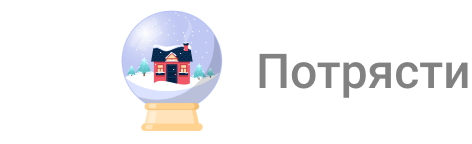Мне тут пришла в голову мысль выложить на Пикабу несколько рассказиков моей мамы, вдруг кому-то "зайдет", триггернёт, разблокирует. У моей мамы кроме "взрослых книг" есть двухтомник рассказов, наверное, можно сказать, детско-подросткового содержания, хотя на мой взгляд, это больше для родителей, и этот сегодняшний рассказ оттуда. Короче, ловите, а там разберемся! :)
Дед быстрым взглядом окинул витрину и подал ту, на которой, взявшись за руки, на фоне числа «300», написанного крупными красными цифрами, кружком стояли красивые девушки.
— Конечно, — улыбнулся дед.
Я сразу представила себе лесной детдом, где все дети жили дружно. «Хорошая у нас страна», — порадовалась я, прижимая открытку к груди.
Около другого киоска к деду подошла очень красивая, но беспокойная женщина. У нее тонкие высокие брови, крупные карие глаза. Но сетка мелких морщин на лице и дряблая кожа шеи выдавали ее возраст. Размахивая руками, женщина начала громко и бессвязно о чем-то рассказывать деду. Потом стала плакать и смеяться одновременно. Мне сделалось не по себе. Даже холодок пробежал между лопаток. Я испуганно спряталась за деда. А он тихим голосом успокаивал женщину и осторожно гладил по длинным взлохмаченным светлым волосам. Тут подошла согнутая старушка и увела с собой странную женщину.
Дед был расстроен встречей. Он молчал и только изредка рассеянно кивал приветствовавшим его людям.
— Папа, отчего тетя такая? — осторожно спросила я.
— Весной муж вернулся из заключения, а через два месяца умер. Она умом и тронулась. Пятнадцать лет ждала.
— Зачем ждала? Раз он был в тюрьме, — значит плохой.
— Дружили мы семьями. Георгий был главврачом в нашей больнице. В тот год пригласил нас его заместитель вместе отметить Новый год. Первый тост был, естественно, за Сталина. А мой друг извинился: «Дорогие друзья, язва у меня открылась, не смогу сегодня с вами бокалом звенеть. Курс лечения закончу, тогда и «вздрогнем». А вскоре заместитель сел в кресло начальника, а мой друг — на пятнадцать лет с конфискацией.
— Что же она теперь, а не тогда мозгами...
— Обещала ждать. Все вынесла. Дождалась... Сначала в счастье не поверила... А когда умер, — сломалась...
— На войне пулю спиной поймал.
Дед ушел от ответа и только хмуро сказал:
— Он за всех прихлебателей не в ответе.
Когда подходили к дому, опять появилась та самая старушка.
— Яша, приходи к нам завтра. Сорок дней. Не забыл?
— Приду, — ответил дед мягко.
И вдруг наклонился к моему лицу и тихо, смущаясь, сказал: «Я, дурак, тоже плакал, когда Сталин умер».
Оля уехала в деревню к родне, поэтому на поминки дед взял меня с собой. Комната была полна народу. Разговор вели неторопливый. Выпили по одной рюмке водки и стали по очереди вспоминать усопшего. Я напряженно вслушивалась в слова. Говорили по-разному: зло, раздраженно, печально, но все — тихо. Для меня эта встреча была как гром с ясного неба. Я никак не могла понять кто плохой, кто хороший. А главное, кто виноват? Я не хотела верить в то, что взрослый мир много хуже детского, что он слишком жестокий, а взрослая боль тяжелее, потому что там часто умирают....
Из-за стола встал дядя Вадим, высокий красивый молодой человек, налил себе рюмку водки и заговорил:
— Как-то случилось мне играть в соседнем дворе в футбол. Наверное, сильнее, чем надо, ударил по мячу, и он влетел в окно. Я не убежал, а только подумал: «Сам виноват. Бабушке не скажу. Заплачу за стекло из своих денег, которые целый год копил». Из дома выскочил мужчина, оглядел притихших ребят и меня, виновато опустившего голову, швырнул мяч мне под ноги и бросил в лицо жестко: «Безотцовщина!» Я похолодел. Как ножом полоснуло горькое слово. «Зачем он так? — подумал тогда. — Заслужил, — отстегай меня крапивой!» А он ударил в сердце. И произнес это слово с презрением, будто я нечисть какая-то. Всколыхнулась во мне откуда-то из глубины боль, не осознаваемая дотоле, обида за себя, за бабушку, — ни в чем не повинных, за папу, погибшего за нас и за того, кто так зло и гадко тронул мою душу. Это слово все перевернуло во мне. Я почувствовал себя несчастным, обделенным. Начал думать о жизни иначе: горше, с оглядкой. Мне стало казаться, что это слово выжжено у меня на лбу. Но бабушка Мила сумела успокоить меня своим теплом. Хотя и сейчас, когда слышу — «безотцовщина» — щемит сердце, туманит голову та, детская, обида. О том, что отец был репрессирован, узнал только на похоронах дяди Георгия. Я благодарен людям нашего двора за то, что они ни разу не попрекнули меня отцом ни в сердцах, ни в обиде. Сберегли они мое детство от метаний в неизвестности, от жутких страданий из-за несправедливости. Не было у меня глухой обиды на страну, на людей. Я знал — отец погиб на войне, он герой. Я верховодил ребятами нашего большого двора. Был нормальным мальчишкой, верным другом. Мое голоштанное детство было овеяно романтикой подвигов отца, верой в прекрасное будущее. Оно было наполнено любовью к друзьям, окружавшим меня людям и моей бабушке Миле. Он прижал к себе одной рукой худенькую седую старушку и выпил залпом: «За твое здоровье, родная».
Потом все пошли на кладбище и, опустив головы, долго молчали у могилы.
Во мне нарастало волнение, боль за хороших людей. Не заметила, как зашептала:
Темно-синяя ночь надо мною склонилась
И усталые плечи прижала к земле,
Словно скорбная мать над могилой молилась
Обо всех на планете — погибших во зле...
И, ударившись сердцем, онемевшим от боли,
О бездушье людское, о зависть и злость,
Он лежал рядом с ними, пожелавшими воли,
И склонилась над ним виноградная гроздь.
Бабушка прижала мою голову к своей груди и впервые за вечер заплакала тихо, по-детски всхлипывая. Я тоже. Мужчины еще ниже склонили головы.
На следующее утро дед спросил меня:
— Откуда ты знаешь такие стихи?
— Я их не знаю. Они сами из головы пришли.
— Ты их сочинила у могилы?
— Не сочинила. Пересказала, как поняла, все, что слышала вечером. Я ничего не выдумывала. Это не я, оно само, понимаете?
— Нет, — сознался дед, — и часто у тебя такое?
— Часто. Но не вслух. Когда грустно, молча говорю о душе, о сердце, а когда весело — про природу и ребят. Мне стало жалко вашего друга-доктора и поплыло в голове. Начинаю первую строчку и не знаю, о чем будет вторая. Они сами складываются. Если об этом же в другой день вспомню, то другие слова образуются. Лучше получается, когда волнуюсь, дрожу внутри. И еще когда никто не мешает.
— На кухне стихи, наверное, не пишутся? — усмехнулся дед. — Давно это у тебя?
— Сейчас сможешь что-либо сочинить?
— Конечно. Но это будут не стихи, а просто рифмовки.
— Всякий дурак сможет срифмовать «драться, плескаться, кусаться, собраться». Хорошие строчки появляются, когда душа болит.
— И часто она у тебя болит? — сдержанно спросил дед.
— Часто. Когда жена вашего друга в черной одежде наклонилась над могилой, она показалась мне темным облаком печали. И дикий виноград я не придумала. Он оплетал дерево, стоявшее у памятника. Вы видели?
— Я хотела, что-нибудь сказать про людей у могилы, но ничего не пришло в голову, а придумывать не стала. Подожду, когда само сложится. Вот услышала прошлой зимой, что летчик погиб (я в это время на улице у столба стояла, где висел репродуктор), посмотрела вокруг и тут же представила, как его самолет сгорает в воздухе.
Был зимний, розовый закат.
В нем мир теней исчез бесследно.
И только дыма, гари смрад
Остался след на небе бледный...
Я на самом деле видела в небе черно-красную тучу, розовый закат, и на земле в тот вечер не было теней от деревьев. И вдруг запах гари почувствовала... Раньше, бывало, приложу ладони к лицу, почувствую запах рук, — а он ведь всегда разный — и вспоминается то хвойный лес, то горячая печка... А тогда у столба все произошло, наоборот: при словах «взрыв и пожар» я ощутила запах горячего дыма и бензина. В первый момент удивилась, посмотрела вокруг: вдруг и правда что-то поблизости горит? У вас такое бывает?
— Нет. Ты очень чувствительная.
— Стихи обычно я сочиняю и сразу забываю, а этот запомнился. Наверное, потому, что о летчике до сих пор вспоминаю. Даже лицо ему придумала и нарисовала. Красивое такое, мужественное, умное и очень доброе. Только добрый человек может стать героем!
Дед прилег на кровать. Я села рядом на полу. Его рука лежала на моей голове, и мы продолжали разговаривать. Но уже молча.
— Папа, дядя Вадим сын больной женщины?
— Племянник. А ты знаешь, бабушка Мила ему не родная. Она подруга его бабушки, которой к тому времени уже не было на этом свете. Отец Вадима без вести пропал на фронте, мать немцы расстреляли. Тогда пришла Людмила Васильевна и забрала мальчика у соседей.
Я вспоминала доброе лицо седой старушки, и в голове проносились благодарные стихи об этой прекрасной женщине.
Если понравилось, мою маму зовут Шевченко Лариса Яковлевна, этот рассказ из книги "Надежда", в интернете можно найти и ее сайт и книги.