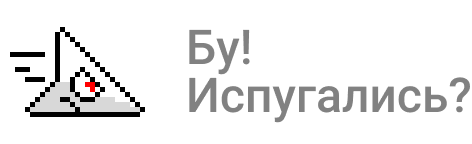Анечка задыхалась. Лающий надсадный кашель бросил на подушку её хрупкое тело. Облегчение не шло, и когда приступ кончился, девочка замерла в постели горой серых тряпок.
— Есть хочу…
На улице властвовала предрассветная темень. Печка слабо освещала угол за занавеской, и лишь тёмный силуэт выдавал, что Анечка не одна. Человек вздрогнул. Обернулся. При свете осунувшееся лицо юноши показалось малышке жутким.
— Конечно, милая, — произнёс он, торопясь к столу. — Сейчас щей подогрею, поешь и тотчас полегчает.
Он засуетился, наливая в кружку водянистое варево, заботливо подложил картошки, двинулся к печке. Юношу звали Вениамин. И сквозь его кожу уже торчали кости.
Сбрасывая путы сна, Вениамин следил за щами. Чтобы не задремать, он принялся насвистывать под нос, и весёлый мотив скоро стал едва различимым шёпотом:
«Мотыльком тебе больше амурным
не порхать днём и ночью повсюду,
не смущать и тревожить красавиц…» [1]
За тонкой занавесью храпела хозяйка, совсем не попадая в такт. Из-за этих её ночных трелей жильцы в углу надолго не задерживались, но Вениамину было всё равно — он переставал слышать храп, как только касался подушки головой.
— Веня, дай поесть! — застонала Анечка.
Юноша вздрогнул, пробуждаясь от коварной дремоты. Осторожно достал кружку, и прохлада комнаты мгновенно вцепилась в жестяные бока.
— Сейчас, сейчас, сестрёнка…
Анечка припала к ободку. Жадными глотками начала пить зеленовато-серую жижу. Скрывая вздох, Вениамин подал ей кусок чёрствого хлеба.
— Ешь, милая, ешь. Всё образуется…
У него слипались глаза. Если бы Вениамин видел окно, то наверняка застыл бы, загипнотизированный светлеющим небом. Приближался рассвет. Голод чуть отступил, и Анечка откинулась на мокрое бельё. Её щёки горели алым. Вениамин вздохнул снова, приложил ладонь к горячечному лбу.
— Если не станет легче, попроси у хозяйки компресс, — прошептал нежно. — Запомнишь?
Анечка кивнула. Блестящими глазёнками проводила брата до шкафа, полюбовалась, как тот, едва дыша, надевает драгоценную — без формы к службе не допустют — тужурку [2].
— Возвращайся скорее, — попросила малышка.
Вениамин улыбнулся. Погладил слипшиеся от пота волосы.
— Всенепременно.
Тихие шаги к выходу. Остановка… Вениамин бросил взгляд на постель и, не сдержавшись, присел на корточки.
Тонкие припухшие пальцы нырнули под кровать. Анечка, повернувшись набок, смотрела, как брат достаёт скрипку — стройную, лакированную, слишком нарядную для их каморки. Вениамин медленно погладил гриф, шейку [3], коснулся трепещущих струн.
«Береги её больше жизни», — вспомнились отцовы слова.
— Сыграй мне, Веня! — взмолилась девочка, давясь кашлем.
Вениамин посмотрел на сестру, перевёл на скрипку взгляд, полный не меньшей тоски.
— Нельзя, милая, дом разбужу. Нельзя… — прошептал, лаская инструмент.
Знал бы он в детстве, когда взял в руки скрипку, что кончит нищим!
Спрятав сокровище, Вениамин быстро вышел. Только глаза цвета горного хрусталя проводили колыхнувшуюся занавеску и медленно наполнились слезами.
Непривычно холодный октябрь донимал петербургские улицы. Первые лучи солнца застали бедолагу в пути. Стараясь не шататься, тот ковылял от двора ко двору, и лёгкие письма давили на плечи количеством. Кусая обветренные губы, Вениамин шёл к своим двадцати трём дневным копейкам, а ветер дул, немели пальцы, и похудевшие ноги едва держали тело.
Если б отец его видел…
В голове звучала скрипка. Только эти трели помогали Вениамину держаться, не падая в грязь мешком костей и плоти. Он не мог не влюбиться в музыку, когда услышал мамино пение за работой. Не мог не влюбиться, когда увидел вдохновенное лицо отца.
Папа держал смычок так же, как запястье беременной жены: любовно и бережно. Объединяя голос и пение струн, родители, казалось, возносились выше мира, бедствий, тревог. И беды отомстили, забрав их с разницей в четыре года.
— Не смущать и тревожить красавиц, Нарциссёнок, Адончик любви… — пропел тихо Вениамин и постучал в дверь.
Рабочий день шёл полным ходом.
По дороге был рынок. Смущённо, как обычно, Вениамин толкался у прилавков, и локти более наглых прилетали в бока тычками. Облезлая крыса внимательно смотрела из лотка реп, и в её чёрных глазах чудилось больше сочувствия, чем в человеческих.
За фунт [4] перловой крупы взяли десять копеек, и скрипач, поразмыслив, купил ещё молока. Вторая бутылка за месяц приятно легла в руки. Анечка порадуется. Вместе с письмами Вениамин занёс «домой» и продукты, и хозяйка добродушно пообещала накормить малышку.
Петербург пел. Скрипач тащил на горбу новую партию почты, и повозки трещали по мостовым восходящим легато [5]. Голоса прохожих слились в единую хоровую партию, так, что пальцы сами тянулись подыграть. Мимо скользили жакеты и строгие платья, в лицо кидались котелки. Вениамину вдруг показалось, что он падает. Он пошатнулся. Голова закружилась, превращая улицу в карусель.
— Не хватает скерцо [6], — прошептал Вениамин, почти теряя сознание...
Домой он вернулся при свете уличных фонарей. Хозяйка не спала. На полный мольбы взгляд старушка лишь покачала головой и вернулась к своему шитью.
— Нет, голубчик, по объявлению не звонили.
— Может, спрашивали не учителя скрипки, а как-то иначе? — отчаянно спросил Вениамин. — Например, наставника или…
— Нет, — устало перебила хозяйка.
Поправила на голове пучок седых волос, степенно разложила кружевной воротник.
— Никто не интересовался.
Опустив взгляд, скрипач нырнул за шторку. Улыбнулся истощавшей сестрёнке. У Вениамина подкашивались ноги, и он упал на край кровати, скрывая усталость за лаской.
— Попила молочка? — спросил с преувеличенной радостью.
Анечка кивнула и угрюмо завозилась на простынях, выпрямляясь.
— Вень, а расскажи сказку? — попросила малышка. — Такую, где всё кончается хорошо.
Вениамин выдержал паузу. Погладил сестру по плечу, гадая в уме, где взять деньги в оставшиеся для сна часы.
Был способ. Но о нём скрипач и думать боялся.
— Конечно, милая, — произнёс Вениамин ласково.
Подоткнул одеяло по бокам от худенького тельца.
— Жила как-то на свете хитрая лисица…
Дом погружался в ночную тишину, и только выползшие тараканы слушали волшебную историю.
***
— Простите, вам не нужен учитель скрипки? Я дорого не возьму.
Дверь захлопнулась, едва не ударив по и так кривоватому носу. Вениамин отшатнулся. Досадуя, побрёл дальше, сверяясь с адресами. И почему от него шарахались люди? Он же способный! Какая разница, сколько в кармане — искусство творится в любых декорациях, если есть сердце.
Открылась очередная дверь. Вениамин робко протянул письмо.
— Простите, вам не нужен…
Бам!
Даже не дослушали.
На улице голосили наглые городские вороны. Одна, озорничая, подобралась к жёлтому конверту, и Вениамин улыбнулся. Щёлкнул птицу по клюву.
— Проказница!
Ворона каркнула и полетела, взметнув крыльями пыль. Щурясь, Вениамин проводил её взглядом.
«Музыка спасает сердца», — говорил отец, листая ноты на крохотной кухне.
Жаль, не спасает тела.
Мысль о теле неожиданно задержалась в затуманенной голове. Проходя мимо витрины модного бутика, Вениамин взглянул на отражение. Нестриженые волосы уже спустились до плеч. Форма почтового скрывала бедность, но стоит снять, и всё писано по рёбрам. Впрочем, это не в учителя нанимать, не всякая, может, отвергнет. Вениамин сглотнул образовавшийся в горле ком от презрения к самому себе. Дождётся богатых домов. Гордость — сокровище, увы, не по нему.
Третья по счёту дама, дебелая и лоснящаяся, заинтересовалась неумелыми комплиментами почтальона. Взяла письма, начала читать, покусывая пухлые губы.
— Вы знаете, сударь, — сказала дама томно, — я плохо вижу. Не могли бы вы зайти и прочитать мне вслух? А я вас чаем угощу.
Стиснув зубы, Вениамин шагнул в роскошные комнаты. Через силу улыбнулся женщине — та кокетливо повертела на груди жемчужное колье.
…Получив благодарность, он всё же норовил поиграть, но у дамы даже не оказалось скрипки.
Его поступка хватило на целую курицу, и вечером Вениамин отпаивал бульоном сестру, кашлявшую всё сильнее.
***
— Знаете-с, вы в последнее время изволите халтурить! После вас остаются письма. Да и работаете, смотрю, часов от силы тринадцать — недобор, недобор.
Начальник поджал похожие на гусеницу губы. Приласкал лежащие на столе расчётные бумаги бесформенной дланью.
— Но на восемнадцать копеек в день мы не выживем, сударь! — взмолился Вениамин. — Прошу вас о снисхождении, молю! У моей сестры горячка, мы едва сводим концы с концами.
— Это не мои-с трудности, — ответил начальник неторопливо. — Работайте больше. Иначе, боюсь, вам нечего и рассчитывать на то же жалованье, что у других.
Вениамин чувствовал, как трясутся плечи. В ладони лежали жалкие гроши за этот день изнурительной беготни по Петербургу. Сердце в ушах билось отрывистым стаккато [7], заглушая другие звуки, начальник равнодушно взирал на разносчика заплывшими глазёнками, и впервые в жизни Вениамину хотелось лезть в драку.
— Вон.
Указующий перст простёрся к двери. Вениамин постоял. Поник. Вышел. Сгорбились усталые плечи.
Вот и дожили.
Домой брёл в прострации, и всё казалось враждебным: эти здания, стук колёс, лощёные лица. Торговцы, зазывающие к мясным рядам, вызывали тошноту. Вениамин шёл, глядя в землю, и дождевые червяки корчились между его широкими шагами.
В аптеке, сминая в руках бумажку, скрипач поднял взгляд. Поморгал, собирая в кучку растерянные мысли. Аптекарь бездушно смотрел в ответ сквозь монокль.
— Дайте, пожалуйста, грудных лепёшек… мать-и-мачехи на три копейки, — перечислил Вениамин, — и Доверов порошок [8].
— Горячка? — деловито уточнил аптекарь. — Возьмите ещё ромашки — из Германии привозют. Жар как рукой снимет.
При слове «Германия» бедняге вдруг вспомнилась опера Фиделио [9]. Он зажмурился, изгоняя из головы мысли, от которых становилось только больнее.
— Давайте ромашку, — прошептал он. — Говорят, помогает.
— Конечно, — невозмутимо согласился аптекарь. — С вас двадцать копеек.
Молчание длилось не меньше минуты. Вениамин катал в пальцах монеты, словно никогда бы их не выпустил.
— Уберите, пожалуйста, лепёшки, — попросил он.
Закатив глаза, аптекарь пересчитал сумму…
Прижимая к груди лекарства, Вениамин шёл по вечерним улицам. В душе разгоралась борьба. Он чувствовал себя так, словно отрывал от сердца кусок и продавал в пресловутом мясном ряду. Казалось, торговать собой было легче, и даже умереть не так плохо, как… Если б он был один. Если б один нуждался.
В каморку Вениамин зашёл, сжав кулаки. Взяв котелок, зачерпнул из бадьи воды для отвара. Проверил черпак: нет ли щепок от этой развалины?
— Как прошёл день, Веня? — спросила Анечка.
Она скучала дома, но молчала, не жаловалась, и только вечерние допросы выдавали детскую тоску. Вениамин приблизился к постели. Улыбнулся, убрал её прядки за тонкое ушко.
— Замечательно, милая, — произнёс он. — Завтра великий день.
И, помедлив, обрубил канат:
— Завтра я буду играть.
Анечка распахнула глаза. Отвернувшись, Вениамин занялся котелком, скрывая от девочки горькую усмешку. Прощаться — так красиво. Пусть все услышат, чего лишились.
— Это же прекрасно, Веня!
— Да, — прошептал тот. — Прекрасно…
Этой ночью он, наконец, спал. Сны вышли тревожные, но тело с такой готовностью провалилось в отдых, что не помешали и кошмары.
Свет сквозь тучи слабо подкрасил занавесь. Вениамин завозился, выпуская из-под бока девочку. Мысль пришла раньше пробуждения — вставай. День твоего печального триумфа настал.
Вениамин осторожно спустился на пол и, наклонившись, извлёк свою любовь на свет. Та блестела, как в день, когда её купил отец. Вениамин с болью провёл по корпусу. На гриф упала слеза. Выпрямившись, скрипач подмигнул проснувшейся Анечке, прикрывая печаль игривостью.
— Слушай.
И полился Вивальди.
В окно заглядывал распушившийся воробей. Доходный дом [10] звенел мелодией гения, и Вениамин был счастлив, пусть и ненадолго. Сегодня он играет кон доло́рэ — с печалью. Через час, когда Анечка нарадовалась, Вениамин вышел на улицу и, глубоко вдохнув, огляделся. Порядочные петербуржцы спешили по делам, товарищи с почты разносили конверты. Пора звучать. Впервые за долгое время Вениамин гордо вскинул нос, расправил худые руки.
Скрипка легла на плечо, и он пошёл по улице.
Как сумасшедший, которому всё можно, отвергнутый скрипач говорил вслух — нотами. Он врывался в уши других сначала Моцартом, потом каприсами Паганини. Звучали и оперы, любимые его папой с мамой. Люди оглядывались, качали головами, спесиво поджимали губы, торопясь поскорее обойти стороной возмутителя спокойствия. Они всё ещё презирали бедствующего чудака. Отворачивались от него — одновременно стыдливо и оскорблённо.
Зато слушали звери.
Первыми Вениамин заметил котов: те бежали вслед, оставив объедки, и даже пытались «подпевать». Потом, прогнав их, появились бродячие псы. Вениамин играл. Растворяясь, как пена в море, он не задумывался о странностях, а звери прибывали: из углов и закоулков, шевеля усами, выползали крысы, вороны и голуби летели за музыкантом, а люди шарахались от их крыльев. Это была поистине величественная процессия, которой Петербург не видывал ни раньше, ни, думалось, позже.
— Сударь, — внезапно шагнул наперерез городовой, — я вынужден просить вас прекратить. Если вы и дальше продолжите сеять беспорядок на улицах, то пойдёте под стражу.
Очнувшись от своего рая, Вениамин взглянул на полицейского. В тюрьму? Там кормят. Но Анечка…
— Конечно-конечно, — пробормотал он рассеянно, не по форме.
Концерт завершился, и городской сумасшедший вернулся в свою клетку у печки.
Песня угасла.
Оставшийся день он ухаживал за Анечкой: разводил порошок, кормил водянистой кашей, варил травы. О ненавистной службе не думал — вырученных денег хватит, чтобы покрыть хоть неделю, ещё останется. Ныло сердце, и Вениамин старался не думать, не смотреть под кровать, не горевать. Продаст завтра. Музыка всё же спасёт их.
Спать ложился рано, ошалев от еды и отдыха. Анечка кашляла реже, а сам кашель стал чуточку глубже: помогали лекарства. Обняв сестру, Вениамин провалился в сон, где звучали шедевры музыки — сами собой, из воздуха…
Проснулся он от щекотки и шороха рядом. С трудом разлепив глаза, скрипач уставился на острую мордочку, дрожащие усы, крохотные лапки, топочущие по груди. Поморгал. Ошалев, подпрыгнул на кровати, и крыса упала на пол с обиженным писком.
— Что случилось? — спросила Анечка сонно.
Продрав глаза, ахнула.
Каморка наполнилась зверьём. Со всех сторон на семью смотрели чёрные умные глазёнки. Птицы, мыши, пара заблудших кошек, скопище тараканов… Не веря глазам, Вениамин оглядывал «толпу» и то, что те принесли.
— Батюшки! — завизжала хозяйка, выглянув из-за ширмы. — Ты что, колдун?! Колдун!
Анечка засмеялась. Испуг прошёл, и теперь она с любопытством рассматривала гостей.
— Ух ты… — прошептала малышка.
Крысы в основном принесли яблоки, вороны — хлеб, яйца и пару рыбёшек. Коты притащили мясо: драгоценную курятину, большие, на вес золота куски заветренной говядины с прилавка. Вениамин оглядел эти дары благодарных слушателей — и не выдержав, расхохотался.
— Спасает… спасает искусство! — смеялся он.
А в окно всё лезли и лезли твари, оказавшиеся отзывчивее людей, и несли свою бескорыстную помощь.
1 — ария «Non più andrai» из оперы «Свадьба Фигаро»;
2 — двубортная форменная куртка;
3 — часть скрипки, то, за что держится скрипач во время игры;
4 — в царской России 0,409 кг;
5 — приём игры на музыкальном инструменте, при котором один звук переходит в другой плавно, без пауз;
6 — небольшое музыкальное произведение в оживлённом темпе;
7 — манера исполнять звуки отрывисто, отделяя один от другого паузами;
8 — лекарство от кашля из опиума и рвотного корня;
9 — единственная опера немецкого композитора Людвига ван Бетховена;
10 — многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду.
© Алёна Лайкова
Источник: https://vk.com/wall-183463244_3770