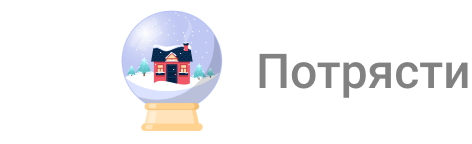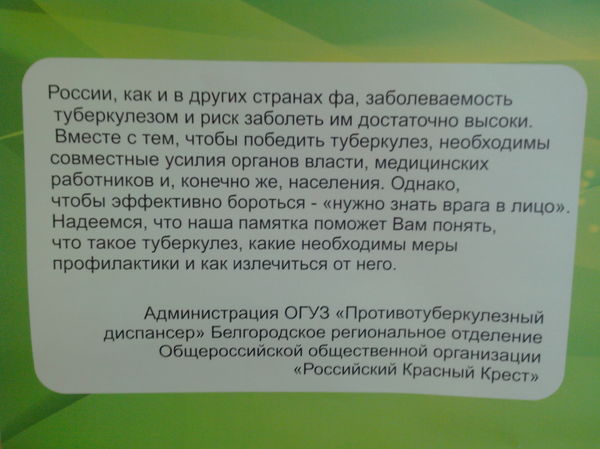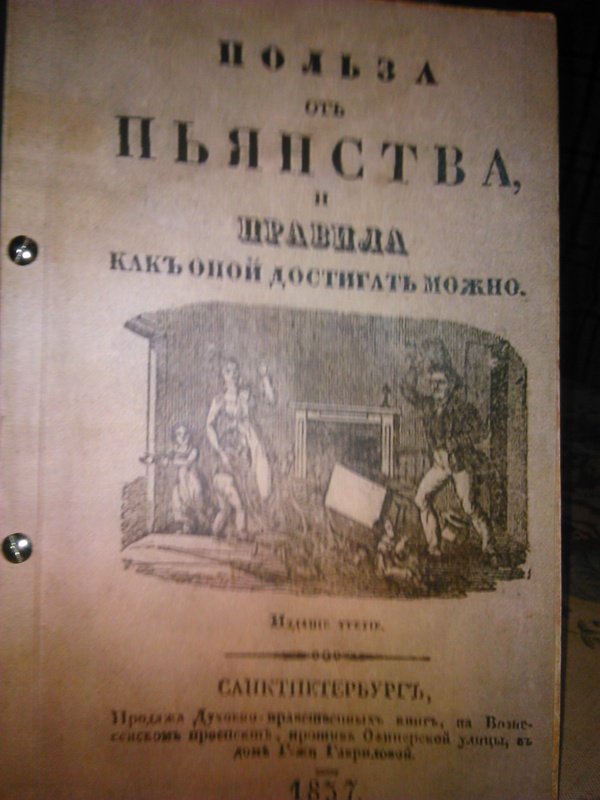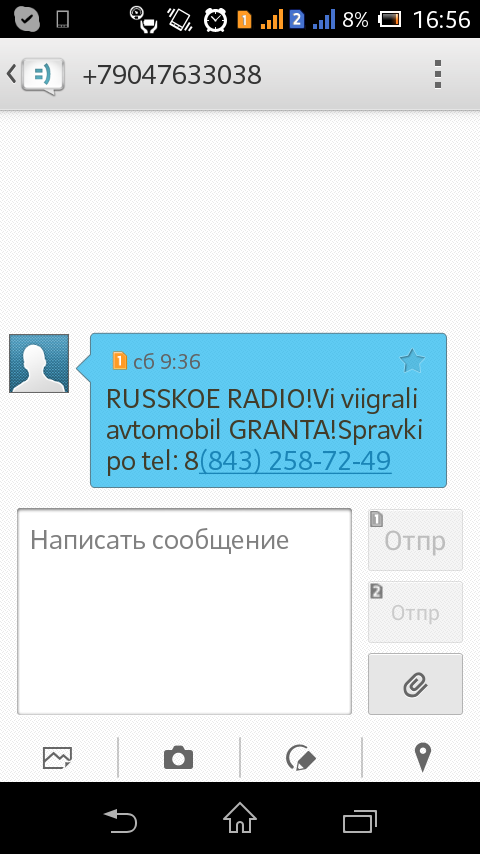Чертовка, Майк Гелприн
Замечательному человеку и редактору,
Ларисе Романовской
Вам, милостивые государи или государыни, в Санкт-Петербурге случалось ли бывать? По всей видимости, нет. Напрасно, занятный городишко.
Я бывал в нем трижды. В первый раз в 1824-м, прибыл как раз накануне наводнения. Что за чудо это наводнение, должен вам сказать. Людишки мерли как мухи, только успевай. Да-с. Вторично посетил я эти места в 1905-м, но задержался всего на сутки. Вам, почтенные, про Кровавое воскресенье приходилось ли слыхать? Нет? Я так и знал. Поверьте на слово, это было шикарное действо, со времен Варфоломеевской ночи ничего подобного не припомню.
Ну а в третий раз занесло меня в этот городишко аккурат вчера, и назывался он уже Петроградом, потому что шла большая война с германцами. Война, достопочтенные! Война! Самое чудесное время, благодатное, изобильное. Наутро я не отказал себе в удовольствии не спеша прогуляться по Невскому, плюнул на площадь перед Казанским собором, дал пинка зазевавшейся гимназистке и подставил подножку дьячку так, что тот загремел тощей мордой в грязь.
К полудню добрался я до Дворцовой. Здесь, в палатах Зимнего, стараниями недалекого государя был разбит госпиталь на тысячу коек для нижних чинов. В этом заведении мне предстояло обосноваться надолго.
Я не представился, виноват. Поверьте, не потому, что с годами подрастерял хорошие манеры. А всего лишь оттого, что имен у меня было множество, и всех вы наверняка не запомните. К примеру сказать, в Греции звался я Валериосом, в Испании — доном Валерио, во Франции и вовсе месье Валье. Ну а в России — Валерьяном Валерьяновичем, прошу любить и жаловать. Для друзей — просто Валерьяшей, но так как друзей у меня нет и, даст черт, не будет, попрошу без фамильярностей.
Так я госпитальному Хранителю и сказал, едва переступил порог и отвесил небрежный поклон.
— Валерьян Валерьянович, к вашим услугам. Прошу величать исключительно полным именем, понятно вам?
Хранитель не ответил, и я поднял на него взгляд. Ей-черту, я бы предпочел видеть визави кого-нибудь другого. Он, правда, наверняка тоже. Так или иначе, скрестив на груди руки, растопырив белесые крылья за спиной и нацепив выражение надменного превосходства на холеную благостную ряшку, на меня пялился господин э-э…
— Как нынче вас величать? — не стал гадать я.
— Михаилом Назарьевичем, — снизошел до ответа этот ханжа.
С Михаилом Назарьевичем впервые столкнулись мы во Флоренции, веков эдак шесть назад, во время чумы. Правда, звали этого хлыща тогда синьором Микаэло, носил он белую складчатую дерюгу до пят и чертовски здорово управлялся с игральными костями. Обыграл он меня вчистую, до сих пор не могу забыть глумливый смешок, летящий мне в спину, когда я несолоно хлебавши убирался из чумного города прочь. Я взял у него реванш в Париже, в 1871-м, на углу улицы Седэн и бульвара Ришар-Ленуар. Звали его тогда месье Мишелем, и мы сидели друг напротив друга на развороченной мостовой, а версальские гвардейцы сосредоточивались под арками для атаки на баррикаду.
— Аверс мой, — заказал он.
Я щелчком запустил в воздух серебряную монету в пять франков, и мы с месье святошей уперлись в нее взглядами. Мгновения растянулись, монета, крутясь волчком, словно зависла в воздухе и упорно не хотела падать, но потом упала-таки, и мы оба подались к ней, едва не столкнувшись лбами.
— Реверс! — объявил я.
Секунду спустя гвардейцы метнулись в атаку. Получасом позже я с гордостью смотрел на ссутулившегося и закрывшего руками лицо месье Мишеля, на безвольно поникшие белесые крылья у него за спиной, а уцелевших коммунаров оттаскивали от баррикады в сторону и одного за другим ставили у побитой пулями кирпичной стены…
— Ну-с, — сказал я, оборвав воспоминания. — Что творится в этом чертоугодном месте?
— Богоугодном, — поправил Хранитель. — Сами осваивайтесь, господин хороший, у нищих духом слуг нет.
Я пожал плечами и двинулся прочь, оставив святошу в тылу. Вам, уважаемые, про ангелов-хранителей читывать приходилось ли? Что, дескать, у каждого человечишки свой? Если читывали — забудьте: это, стесняюсь сказать, брехня. Хранитель один — один на всех, и его удел — противостоять такому, как я.
В Николаевском зале я насчитал две сотни коек. Свободных не было, на каждой лежал новоиспеченный кандидат на тот свет. Или на этот, в зависимости от наших с Михаилом Назарьевичем скорбных дел. До обеда я знакомился с контингентом — односторонне, разумеется: увидеть меня воочию выпадало немногим, лишь тем, до которых я снисходил, оказывая им немалую честь.
Простите, немилостивцы мои, отвлекся. Положением дел остался я крайне недоволен. Большинство лежачих были уже помечены. Те, что шли на поправку, — Хранителем; те, кому никакое излечение не светило, — моим предшественником. Так вот, последних было меньше, гораздо меньше, значительно.
— Слава богу, — услышал я, когда стукнуло три пополудни. — Уже двое суток ни единого летального случая.
Я обернулся — неказистый кривоногий хирург эдаким экстравагантным образом подбивал клинья к задрапированной в бесформенную хламиду сестре милосердия.
— Вашими молитвами, доктор, — опустила очи долу та.
Я хмыкнул. Молитвами, как же. У нас беспричинно замену не присылают — мой предшественник явно оказался слабаком и сейчас наверняка месил глину где-нибудь на передовой. И поделом ему: пускай вспомнит, каково это, когда через тебя пролетает снаряд. Или, того хуже, насквозь прошивает тебя пулеметной очередью. Это вам не какая-нибудь щекотка — ощущение, поверьте на слово, пренеприятнейшее.
— А вы, Кларисса Андреевна, в воскресенье вечером что поделывать думаете? — не отставал от милосердной сестрицы кривоногий костоправ.
Девица вздохнула. Вопрос явно задавался не впервые и основательно ей поднадоел.
— Я занята, Григорий Фомич.
— Чем же, позвольте узнать?
Девица вздохнула вновь, я даже на мгновение посочувствовал ей. Терпеть не могу занудства.
— Я-то? — Сестра милосердия возвела очи горе. — Я, Григорий Фомич, в воскресенье вечером сношаюсь.
— Что? — оторопел бедолага Фомич. — Что вы сказали?
— Вы что же, не слышали? Я сказала «сношаюсь». С вашего позволения — с гвардейским поручиком.
Я едва не зааплодировал и вгляделся пристальнее. Сравнялось сестре Клариссе Андреевне лет эдак двадцать пять. Была она хороша лицом и высоколоба, а в карих глазах, клянусь адом, лучилась чертовинка. Остальное под бесформенной хламидой с красным, будь он неладен, крестом оказалось не разглядеть, но я дал себе слово при первой возможности посетить служебную сестринскую келью и ознакомиться в подробностях. Признаться, я был порядочно удивлен, если не сказать изумлен: в сестры милосердия обычно отбирали самых что ни на есть закоренелых пуританок и слащавых недотрог.
К вечеру я закончил обход. Что ж, его немудрое императорское величество постарался. В лазарете заправляли три с половиной десятка коновалов. При них состояли четыре дюжины сестер да пара сотен санитаров вперемешку со всяким сбродом. Парадные залы были заставлены койками. Николаевский, Фельдмаршальский, Александровский, Белый…
В Гербовом шили простыни и наволочки, а в галереях развернули операционные и перевязочные пункты.
В канцелярию госпитальной общины явился я за час до полуночи и до утра трудился — знакомился с персоналом. Заочно, разумеется. Среди прочих изучил и досье на сестру милосердия Клариссу Андреевну Ромодановскую. Княжеской фамилии оказалась дамочка, да еще какой. Вам, премногоуважаемые, о Федьке Ромодановском не приходилось слыхать ли? Нет? Вам повезло. Въедливый был мужчина, дотошный и шибко ответственный: при государе Петре Алексеевиче не одну сотню людишек в пыточных замучил.
Хранитель ждал меня в Георгиевском зале, невесть по каким резонам от госпитальных коек свободном. Мы раскланялись. Рожа у него была еще благостнее, чем накануне.
— Приступим? — предложил он.
— К вашим услугам.
Мы начали с орлянки, и я выиграл подпоручика Ермолаева, но проиграл матроса второй статьи Прибытко. Это была равная борьба: рублевая монета выпала на орла, потому что в последний момент воля Хранителя одолела мою.
— Хорунжий Огольцов, — объявил я следующую ставку. — В штос, если не возражаете.
Мы играли хорунжего долгих три с половиной часа. Я дважды передернул и побил его карту, но это лишь свело общий счет в ничью. На третий раз Хранитель поймал меня за руку.
— Вы сшулеровали, Валерьян Валерьянович, — спокойным голосом поведал он. — Ваша карта бита.
— Виноват, — признал поражение я. — Хорунжий за вами. Играем рядового Павлова. Банкуйте.
Он забрал колоду и принялся ее тасовать.
— Скажите, Михаил Назарьевич, — обратился к Хранителю я. — Вам когда-нибудь приходилось шулеровать?
Он перестал тасовать и долго смотрел на меня, молча, не отводя взгляда. Я ждал.
— Видите ли, сударь, — ответил он наконец. — Я вас ненавижу. Не только вас персонально, но всю вашу братию. Вот уже две тысячи без малого лет я занимаюсь тем, что спасаю от вас людей. И всякий раз тщетно — рано или поздно один из вас добирается до тех, кого я вытащил. Так есть ли смысл играть нечестно?
Я не стал отвечать. Смысл, безусловно, был. Лучшим из нас, тем, которые поднимались на вторую ступень, не приходилось исполнять грязную работу. И лучшим из них — тоже. Я много бы дал, чтобы одолеть ступень и войти в число этих лучших. Но я был для этого еще слишком юн — я отправился на тот свет в 1232-м, в Вероне, а на должность заступил и вовсе в 1264-м.
— Вам не хотелось бы слушать арфы и дегустировать нектары, Михаил Назарьевич? — полюбопытствовал я. — Вместо того, чтобы проделывать бессмысленную работу в море боли, гноя и крови?
Он подобрался. Надменная холеная ряшка на миг утратила самодовольное выражение. Голубые водянистые глазки сощурились и перестали походить на ангельские.
— Вам, сударь, — сказал он, будто сплюнул, — этого не понять. Извольте понтировать.
Он протянул колоду. Я подрезал ее валетом бубен. Десять минут спустя я выиграл у него рядового Павлова.
— Достаточно, — брезгливо сказал он. — Вам сегодня слишком везет, сударь. Честь имею кланяться, завтра продолжим.
Я отправил куда следует выигранного рядового, за ним подпоручика и до вечера проскучал. Правда, чайная ложка рвотного, опрокинутая в компот баронессе Гильденбандт, скуку несколько скрасила. Я смеялся словно умалишенный, когда эта чопорная сучка наблевала на общий стол.
Едва начало темнеть, я отправился в каморки, где переодевались в штатское сестры милосердия. Увы, времена, когда созерцание женских прелестей хоть как-то развеивало скуку, для меня были давно в прошлом. Когда у вас из задницы растет хвост, а между ног, увы, пусто… ну, вы, господа, понимаете, самые пикантные зрелища не слишком-то радуют душу.
Я сейчас кое в чем признаюсь, драгоценные вы мои. Не вздумайте надо мной смеяться — хотя бы потому, что это занятие может плохо для вас закончиться. Так вот, увидав обнаженную Клариссу Андреевну, я вдруг об отсутствии кое-чего существенного между ног забыл. Нет-нет, поверьте на слово, тонких талий, широких бедер и полных грудей мне приходилось видеть в избытке. Шоколадного цвета волос до плеч — тем более. Но что-то в ней было, в этой княгине, нечто особенное, и я даже не сразу понял, что именно, а понял, лишь когда она повернулась ко мне лицом. Я даже присвистнул, да так, что все псы, сколько их было в округе, разом взвыли.
Вам, высокопочтенные, не приходилось ли слушать сплетни о том, что глаза якобы зеркало души? Приходилось? Не верьте, это всего лишь домыслы, плоды людского невежества. Глаза врут. Они отражают душу, только если эта душа — определенного, крайне редкого свойства. И отражают лишь для тех, кто умеет такую душу увидеть. Я умел. Кларисса Андреевна оказалась женщиной особого склада. Редкостного, таковых встретишь раз на миллион. Она была дамой нашего толка, вы понимаете? Людишки таких еще называют «чертовками».
— Кларисса Андреевна, голубушка, — услышал я голос невзрачной девицы с плоской грудью и прыщами на тощих ляжках. — У вас не найдется случайно мази? — Девица зарделась и ткнула в прыщи обкусанным ногтем. — Понимаете, доктора мне просить неудобно, и я…
Княгиня Ромодановская поморщилась.
— Вы когда-нибудь о дамской гигиене слыхали? — осведомилась она. — Подмываться надобно, милочка, особенно после грязного мужика.
Я подумал, что худосочную сейчас хватит удар.
— Да вы… да вы… вы что? — залепетала она. — Как вы смеете?! Я никогда, я…
— Я пошутила, — бросила Кларисса Андреевна. — Разумеется, вы чисты, девственны, непорочны. И, осмелюсь предположить, неприятности у вас именно поэтому. Не волнуйтесь, у меня есть подходящее притирание, я вам его одолжу.
— Браво! — сказал я, выбравшись вслед за княгиней на Дворцовую.
Она даже не шарахнулась, как произошло бы с любой на ее месте. Обернулась через плечо, вгляделась в сгустившиеся вечерние сумерки, хмыкнула и двинулась дальше.
— Вы настоящая леди, — подал я голос.
Кларисса Андреевна остановилась. Вновь вгляделась в темноту. Дворцовая на двадцать шагов вокруг была пустынна.
— Полноте, — обронила она. — Я, конечно, перебрала вчера с марафетом, но не настолько, чтобы слышать загробные голоса, наблюдать духов или кто вы там.
Кларисса Андреевна двинулась дальше, а я в полном восторге последовал за ней. У Александрийского столба клевал носом ночной извозчик.
— На Лиговку!
Извозчик встрепенулся. Княгиня Ромодановская нырнула вовнутрь видавшей виды крытой кареты с обшарпанной лакировкой и задернула шторки. Я, небрежно просочившись сквозь дверцу, уселся напротив. Извозчик гаркнул на лошадей, экипаж тронулся.
— Позвольте представиться, — проговорил я.
На этот раз Кларисса Андреевна таки отшатнулась.
— Вы кто? — прошептала она испуганно.
— Меня зовут Валерьян Валерьянович. Пускай вас не беспокоит, что я невидим. Так и должно быть, и ваш вчерашний марафет тут абсолютно ни при чем. Вы, кстати, какой нюхаете? Могу достать отличный французский порошок, наивысшего качества.
С минуту собеседница молчала, настороженно глядя на меня из темноты. Потом заговорила, и, клянусь адом, голос ее ничуть не дрожал:
— Французский коньячок тоже можете?
— Разумеется, любезная Кларисса Андреевна. Вы какой предпочитаете?
— Мы знакомы? — вопросом на вопрос ответила она. — Нет? Так какого черта вы зовете меня по имени?
Я вновь едва не зааплодировал — она опять попала в самую точку.
— Именно, — подтвердил я. — Именно какого черта.
— Ах, вот оно что. — Кларисса Андреевна пренебрежительно фыркнула. — Я читала одного германского стихотворца. Раньше, еще до войны, я, знаете ли, дама весьма образованная. Так вот, этот стихотворец сочинил поэму про некоего доктора, к которому явился…
Я с трудом удержался от смеха. Вам, драгоценные мои, читывать бездарные сочинения господина Гете не приходилось ли? Нет? И правильно, и не читайте — жутчайшая ересь. Станет мессир Мефистофель являться каким-то людишкам личной персоной, как же. Да ни в жизнь: для этого у него есть такие, как я.
— Вы, матушка Кларисса Андреевна, довольно невежественны, — сказал я вслух. — Но это дело поправимое, было бы желание.
Она подалась вперед.
— Вы в самом деле тот, о ком я думаю?
— Поди знай, о ком вы думаете, — пренебрежительно усмехнулся я. — Если о гвардейских поручиках…
— Да бог с ними, с поручиками, — прервала меня она. — Вернее, черт с ними. Я хочу посмотреть, как вы выглядите.
Признаться, я немного смутился. Мой внешний вид — это вам, господа мои немилосердные, похлеще, чем какой-нибудь выбравшийся из гроба скелет.
— Вы в самом деле этого хотите? — счел нужным уточнить я.
— Разумеется.
— Что ж…
Вам, судари или сударыни, на университетских лекциях бывать не приходилось ли? Нет? Похвально. Ничего там интересного нет. Выжившие из ума профессора изощряются в тупоумии, тщась уразуметь природу вещей и лопоча о многомерности пространства, в котором ни дьявола не смыслят. Какая там, к чертям, многомерность. Кто наделен высшей силой, волен оставаться невидимым или являть себя людишкам — вот и вся недолга. Последнее, впрочем, чревато воплями и истериками: людишки, как правило, оказываются к подобным зрелищам не готовы.
Я уселся поудобнее, произнес простейшее заклинание и предстал. Ни воплей, ни истерик не последовало.
— А вы видный мужчина, — констатировала непреложный факт Кларисса Андреевна. — И, по всей видимости, галантный кавалер. Это, позвольте спросить, у вас что?
— Рожки, — объяснил я. — Копытца там ниже, хвост под сюртуком. Вы удовлетворены?
— Смотря какой смысл вы вложили в последнее слово, дорогой Валерьян Валерьянович.
Я хихикнул — она, как и подобает «чертовкам», оказалась весьма остроумна.
— В этом смысле у нас с вами ничего не выйдет, — сказал я не без сожаления. — Увы. Но знакомство со мной, уверяю вас, может оказаться весьма полезным. Вам не надоели поручики?
— Смертельно надоели. Вы можете предложить что-нибудь получше?
Я снисходительно улыбнулся.
— Естественно. Государя императора не обещаю, но какого-нибудь генерала от инфантерии не из самых задрипанных — почему бы нет.
— Звучит заманчиво. — Кларисса Андреевна облизнула чувственные полные губы. — И что мне нужно для этого сделать?
— Ровным счетом ничего. Разве что сказать мне «да». И, возможно, немного посодействовать в моих начинаниях.
На следующий день я выиграл у Хранителя в лото восемь рядовых, уступив лишь однажды. Он отбил двух канониров и ефрейтора в фараон, но в железку я снова взял верх — мне достались сразу три унтера и штаб-ротмистр.
— Довольно, — на этот раз игру прервал я.
— Как вам будет угодно.
Я изобразил нерешительность.
— Мы могли бы разыграть дюжину-другую унтеров в вист, — предложил я. — Или в белот, если пожелаете.
Хранитель презрительно скривил губы.
— За кого вы меня держите, сударь?
Я развел руками.
— Не хотел вас задеть. Думал, возможно, за полсотни последних лет вы приобрели необходимый навык.
Хранитель не ответил, и я из Георгиевского зала ретировался.
— Как вам это понравилось? — осведомился я тем же вечером у княгини Ромодановской.
Мы неспешно фланировали по Невскому. Вернее, фланировала она, а я, как и подобает наставнику, держался в двух шагах по левую руку.
— Вы были великолепны, Валерьян Валерьянович. Особенно когда подменили тот бочонок в лото.
— Вы заметили? — изумился я.
— Я следила очень внимательно. Скажите, а вы не опасаетесь, что вас, так сказать, обнаружат?
Я укоризненно покачал головой. Людишки все-таки скудоумны, даже самые лучшие из них. Не к вам, благородные господа, относится, а впрочем, к вам тоже. Ангела смерти видят лишь те, кому он предстает, а не любой, кому приспичит. Почему-то эту элементарную, в общем-то, истину людишкам удается усвоить с превеликим трудом, да и то далеко не всем.
— Будьте покойны, дорогая Кларисса, — уверил я свою спутницу. — Что-что, а конфиденциальность я гарантирую.
Она внезапно остановилась.
— Валерьян Валерьянович, зачем я вам?
Этого вопроса я ждал, в ее положении его задают все. Я мог бы ответить честно — что каждая завербованная душа зачисляется на мой счет и приближает меня к новой ступени. Что мне осточертела полевая работа, что пробиться наверх крайне нелегко, и поэтому… Я не стал говорить правду. Во-первых, потому что отвечать правдиво — моветон и редко когда бывает целесообразно. А во-вторых, потому что была еще одна причина, и тоже правдивая.
— Вы мне нравитесь, — не стал я эту причину скрывать. — Чертовски нравитесь.
— Вот как? Мне лестно. И что со мной станется, когда я умру?
— Я буду ходатайствовать о зачислении вас в штат. Вы наверняка догадываетесь, какие блага эта должность предоставляет.
Следующие десять минут мы шли молча. Моя Кларисса пыталась свыкнуться с новостью. Я не мешал. Одно дело, когда «чертовкой» тебя людишки зовут за глаза, и совсем другое, когда это звание соответствует сути вещей.
— Что ж, — нарушила наконец паузу Кларисса. — Я согласна.
— И вы не пожалеете, — с пылом заверил я. — Мудрое и правильное решение.
— Скажите, сударь… Почему ваш противник отказался играть в вист или во что вы ему там предлагали?
— Он не просто отказался, — краями губ улыбнулся я. — Он принял это за насмешку. Видите ли, дело в том, что…
Дело было в том, что в коммерческие игры у господина ханжи не было против меня никаких шансов. Ну, или почти никаких. Вист — это не штос, где весьма непросто сшулеровать. Вист — это где смошенничать можно на каждом ходу, а поймать за руку, когда сдаешь себе козырной онер из рукава, чрезвычайно трудно, если не сказать невозможно.
— Он попросту трус, — скрыл правду я. — И проиграть там, где требуются сообразительность и острота ума, боится до чертиков.
На следующий день прибыла новая партия раненых — голов в триста. По этому поводу ходячих в спешном порядке принялись передислоцировать в лазареты попроще. Еще теплые от их тел койки наскоро перестилались, чтобы принять новых постояльцев.
— Нам предстоит немалая работа, сударь, — приветствовал я Хранителя. — Вы, надеюсь, в форме?
Он досадливо фыркнул, и мы уселись на ставшее уже привычным место в Георгиевском зале.
— Что здесь делает эта женщина? — надменно кивнув в сторону Клариссы, осведомился Михаил Назарьевич. — Я видел ее здесь и вчера.
— Моя протеже, — небрежно ответил я. — В свободное от дежурства время обучается ремеслу. Вы имеете что-то против?
Хранитель с минуту молчал.
— Вы все же отвратительное существо, сударь, — сказал он наконец. — Взгляните: молодая, красивая женщина. Занималась богоугодным делом, у нее были все шансы спасти свою бессмертную душу. До тех пор, пока не явились вы. Как же…
— Ближе к делу, — оборвал я. — Не лезьте, куда вам не следует.
Хранитель крякнул, молча стасовал колоду и дал мне подснять.
— Казак Онищенко, — объявил он. — Пять партий в баккара.
Я легко выиграл все пять. Вслед за ними с той же легкостью заполучил еще двух казаков и вахмистра.
— Достаточно? — с издевкой спросил я. — Вы явно сегодня не в форме. Впрочем, мы можем сменить игру. Как насчет партии в белот?
Хранитель посмотрел мне в глаза.
— Идет, — выдохнул он. — Сдавайте.
— Я не ослышался? — изумился я. — Вы согласны сыграть в белот? На кого же?
— На всех.
— В каком смысле? — оторопел я. — Что значит «на всех»?
Белесые крылья за спиной Хранителя трепыхнулись.
— Это значит — на всех разом. Вы надоели мне, господин чертов служка. Смертельно надоели. Вы, такие, как вы, и эта работа. Давайте покончим с этим. Вы будете играть?
— Конечно. — Я наскоро, пока он не передумал, перетасовал колоду. — Извольте подснять.
Я набрал девятьсот шестьдесят очков, когда у него не было еще и шестисот.
— Не желаете сдаться? — предложил я.
— Да подите вы!..
— К черту? — вкрадчиво уточнил я. — С удовольствием.
Я раздал, сбросив себе из-под низа терц от туза треф и открыв семерку треф козырем. Хранитель спасовал, и я раздал прикуп.
— Терц, — объявил я и вышел червовым тузом. — Терц от козырного туза, бела, во взятке партия.
Хранитель секунду помедлил.
— Не проходит! — прогремел он и побил моего туза козырной восьмеркой. — Белот валет козырь, ренонс червей и каре валетов сбоку.
В ошеломлении я застыл. Он предъявил комбинацию, сгреб мои карты и сложил очки. Счет сравнялся.
— Как получилось, что вы пасовали на трефу? — выдохнул я.
Хранитель хмыкнул.
— Не ваше дело, — презрительно проговорил он. — Это вы играете в белот чертовски хорошо, а я как бог на душу положит. Тасуйте.
Усилием воли я справился с ошеломлением, мобилизовался и принялся тасовать. Три туза один за другим скользнули под манжет.
— Срежьте, сударь.
Он подснял, и я раздал по шесть карт. Козырем выпала бубна.
— Пас, — объявил Хранитель.
— Играю!
Я раздал прикуп. Тузы из-под манжета перекочевали в ладонь. Я мельком взглянул на свои карты. Старший козырь, две старших боковых масти и одинокая семерка треф. Выиграть Хранитель мог только чудом.
С полминуты он думал. Затем окинул меня изучающим взглядом и усмехнулся.
— Вы сдали мне одни фоски, — сказал он. — Мне не с чего ходить. Но у меня на руках каре дам.
Он рывком перевернул карты рубашками вниз. Я замер — четыре дамы скалились мне в лицо. Я бил три из них. Но не трефовую. Ходом с дамы треф он выигрывал партию. Любой другой его ход давал победу мне.
— Ну что, любезный Валерьян Валерьянович, — проговорил Хранитель насмешливо. — Дело в даме, не так ли? Весь вопрос — в какой! Хотите пари, что я наверняка угадаю?
В этот момент до меня дошло. Я резко обернулся. Кларисса Андреевна, княгиня Ромодановская, скрестив на груди руки, стояла у меня за спиной. Я понял.
— Ход дама треф, — небрежно обронил Хранитель. — Партия!
Я медленно, в три приема, поднялся.
— С-сука, — просипел я. — Глупая блудливая сука. Так ты, оказывается, была в сговоре с этим снобом. С самого начала, с самого первого дня водила меня за нос, не так ли? Семафорила ему у меня за спиной. Ты хотя бы понимаешь, что с тобой теперь будет?
Она не ответила. Только лишь побледнела. Высокая грудь, которой я любовался в сестринской келье, вздымалась под красным, будь он проклят, крестом.
— Зачем? — с горечью спросил я. — Зачем ты это сделала? Думаешь, этот святоша, — я кивнул на Хранителя, — тебя вытащит? Ошибаешься. Душу можно продать всего лишь раз. Обратно ее не выкупишь. Знаешь, что это такое — вечно гореть в аду?
Княгиня кивнула.
— Наслышана, — едва уловимым шепотом проговорила она.
— Так зачем? Кто тебе эти три сотни убогих калек?
Она внезапно улыбнулась — по-чертовски, задорно, отчаянно и лукаво.
— Да никто, — бросила она, словно речь шла о пустяках. — Вам, сударь, этого не понять.
Текст рассказа из журнала http://ruspioner.ru/cool/m/single/4863