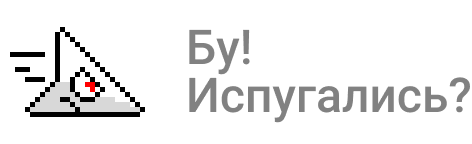Задачей матери в этот момент было выставить на стол горячий ужин, а задачей дочери - убрать пропитанную запахом крови и смерти одежду в лохань для полоскания. При том, попадись они ему на пути, он неизменно отвешивал им оплеуху. Как будто легко, наотмашь, но всегда очень больно. Он бил молча, они молча терпели: если кричать, только отлупит сильнее. Впрочем, мать он регулярно прикладывал так, что не кричать уже было никак.
С самых малых лет девочке доставалась чистка фартука. Тащила деревянную лохань с фартуком во двор, к водокачке, подставляла тяжелую сырую кожу под струю воды. Иногда слой крови и нечистот легко смывался без особого ее участия – только знай перекладывай фартук да качай воду, но чаще, особенно после ночной работы, бурая корка спекалась так, что приходилось тереть руками или пемзой, если удавалось достать ее. И особенно мучительно приходилось в холодную позднюю осень, когда под ледяной струей руки стыли так, что кости ломило, а через минуту уже не чувствуешь пальцы… Зимой, хорошо, работы мясникам почти не было, и стирать приходилось реже. Но отец чаще напивался и приходил еще злее. Впрочем, даже в подпитии он больше пах кровью, чем алкоголем. Казалось, запах крови въелся в него на всю жизнь.
Она ненавидела кровь.
Когда ей было лет восемь-девять, отец заставил ее «подмогать семье», как он выразился – нужно было приходить к нему в Бойни (не во внутренние помещения, куда ее не пускали, а так, к воротам) и таскать домой мешки с требухой, которую ему иногда удавалось достать помимо основного заработка. Идти не очень далеко – дом их стоял в край с Термитником и смотрел своими окнами прямо в Степь, – но мешки, источавшие смрад Боен, гнули к земле, и она с трудом тащила их на спине (отец запретил волочь, опасаясь, что мешки протрутся).
Ей чудилось тогда, что одежда и волосы навсегда впитают этот ужасный запах, который приводил ее в содрогание; а другие дети быстро научились дразнить ее, заметив как-то кусок требухи, свисающий из дыры в мешке: «Кишочница! Кишочница идет! Дай нам кишок, поменяй на порошок!» Однажды она не выдержала и кинула в них чем-то – склизкий багрово-синий кусок мерзко шлепнулся, не долетев до обидчика, а завязки мешка треснули и содержимое вывалилось на ноги. Радости развеселившихся подростков не было конца; отец же, узнав о случившемся, одним ударом отбросил ее к стенке – ей было бы несдобровать, если бы не заступничество матери, которая приняла большую часть побоев на себя. После того носить требуху ей уже не доверяли, но счастья это не прибавило, да и прозвище приклеилось намертво.
Говорят, что именно тогда мать ее немного тронулась умом. Стала смеяться и плакать без причины. Ручаться за то никто бы, впрочем, не стал – кто скажет, какие причины для слез и смеха могут найтись в том кошмарном наваждении, каким была их жизнь?
Когда же дочери сровнялось тринадцать, отец внезапно умер от приступа. Говорят, его сердце отказало в тот момент, когда он собирался рубить сердце очередного быка; и на это счет просвещенные люди болтают об алкоголизме или разливе желчи, а старые степняки бают о том, что каждому мяснику предрешено последний раз ударить тесаком по своему сердцу вместо бычьего.
Пока его хоронили, мать все больше смеялась и плакала, а потом и вовсе перестала здороваться с живыми людьми, предпочитая разговаривать с неживыми, видимыми только ей. По счастью, какая-то дальняя родственница сжалилась над девочкой и дала хоть какую-то честную работу – шитье да стирку, за копейки, да хоть на хлеб, как говорится. Да еще хорошо, что из дома с матерью не гнали – жалели.
Говорят, что она встретила того степняка, когда ей было шестнадцать или около – кто помнил, когда там ее день рождения? Говорят еще, что был он и не степняком вовсе – так, алаг, сорная трава на окраине болота, ублюдок-полукровка от Города и Степи, каких часто плодит граница этих двух миров. Работал на Заводе, имел угол где-то за Складами и водил знакомство с подпольными самогонщиками, утверждая, что поставляет им секреты твириновой настойки. Но для нее… для нее он стал загадочным сыном Степи, который знает такую свободу, какую никто и понять даже из городских жителей не способен.
Говорил, что он – потомок загадочных менху, а ей уготована великая судьба, не чета твириновым невестам, которыми пугали городских девчонок. Странные имена и названия сыпал, которые редкий степняк захочет трепать своим языком попусту – Суок и Бодхо, длинное тавро и Абнак-Шадыр. Он же вплетал в свою речь к месту и не к месту, завораживая городскую девчонку рассказами о странных ритуалах и повериях, пугающими и притягательными одновременно. Кто скажет, сколько он выдумал их на ходу, вспоминая обрывки баек, рассказанных варщиками твирина в долгие часы дистилляции своих настоек? И кто знает, в какие невероятные узоры сливались эти описания в воображении дочери мясника, которая вспоминала страшные тени своего детства – немногословные рассказы отца о страшных Бойнях, пересуды соседей о его занятии и жуткие истории, передаваемые детьми из поколения в поколение о степняках и их магии?
Говорят, что, желая ускорить процесс «первоначального прогрева емкости», как иногда шутили его друзья по самогону, этот алаг рассказал ей об особо таинственном ритуале, проводимом ночью на дальних курганах. Да и предложил на одном из них встретиться – ночь обещалась быть теплой и тихой. Ритуал, разумеется, был посвящен «получению особой силы от земли-Суок, безболезненно окропленной кровью» - на то у молодого «потомка великих менху» был, конечно, свой план. Неизвестно, с чем смешался этот ритуал в голове у той, которую когда-то прозвали «Кишочницей», но она впервые за несколько лет отперла отцовский сундук, в который сразу после смерти схоронила все его барахло, и достала завернутый в фартук вычищенный нож, который по обычаю передали им другие мясники из Боен в день похорон. Нож все еще острый.
Говорят, она ушла далеко – аж на Белый Курган, в нескольких часах пути к западу; видимо, вышла сразу на закате и шла почти всю ночь. Говорят, хватились ее далеко не сразу – лишь на третий день тетка пришла за заказом и обнаружила дома только улыбающуюся без конца мать с пустым котелком от похлебки на коленях – еда давно кончилась, а приготовить новую было некому. Говорят, что куда раньше заметили пропажу ее дружка. То ли знал он, что случилось, и бежал из Города, то ли были причины куда более… неясные. Говорят, искать ее особо и не хотели, но кое-кто из детей, дразнивших ее в детстве, нашел в себе достаточно жалости, чтобы озаботиться ее судьбой. Расспросив подельников «степняка», они смогли хотя бы наметить район поисков.
Говорят, тела так и не нашли, но жуткий багровый след из засохшей крови, тянувшийся с вершины Белого Кургана в сторону Города заметили почти сразу, как добрались туда. Там же, на вершине, нашли и нож ее отца – был он в крови по рукоятку, и следы испачканных кровью девичьих пальцев отпечатались на нем. Город бурлил неделю: предлагали то допрашивать степняков, то мясников, то вообще торговцев твириновой настойкой; в конце концов Ольгимские закрыли дело, раз тело так и не нашли – «А не сбежала ли просто-напросто взбалмошная девчонка со своим полюбовником?».
Мать ее так и скончалась с котелком на коленях и улыбкой на губах. И никто и не заметил, когда именно это произошло. Жалкое имущество разворовали обитатели Термитника, а скоро и сам дом пошел на слом. Кто теперь помнит дочь мясника, которую и по имени-то никто не помнил? Только дети рассказывают истории про Кишочницу, которая иногда темными туманными вечерами тащит на себе мешок с требухой по улицам. Сладкий запах крови и смерти предвещает ее появление…
Они говорят, что тело ее взяла Степь – вобрала в себя кости и плоть, оставив кровь высыхать на траве. Ведь она ненавидела кровь.
Они говорят, что Степь выпускает ее обратно в город – она наполняет мешок для требухи кровью, надеясь, что теперь, наконец, ей хватит, да только кровь это не ее, и никогда ее не достаточно…
И только старые менху никогда не поминают об этой истории, а если кто при них болтать начнет - одергивают. Кто знает, что они могли бы поведать… но они всегда молчат»