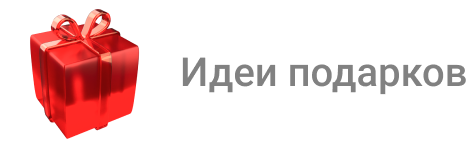Стиг Дагерман. Остров обреченных
Рассказывают, что знаменитый суфийский мудрец аль-Газали советовал тех, кто верит в благое устройство мира, бить палками по пяткам до тех пор, пока они свое мнение не поменяют. Так это или нет, но к героям шведского писателя Стига Дагермана болезненное наказание фалакой применять точно излишне — весь мир для них жесток и преступен, абсурден и бесчеловечен, равнодушен и слеп. Жить для них — это быть ногтем на ноге ничем не примечательного мира-великана, ногтем, весь смысл которого в том, чтобы быть когда-нибудь срезанным. Пусть так, согласились бы мы вслед за Паскалем, зато ноготь-то мыслящий! Именно это, возражает Дагерман, и делает его самым несчастным, самым казнимым в мире существом.
«Остров обреченных» можно было бы назвать романом-катастрофой. Терпит крушение некий корабль (со времен «Титаника» корабль — один из символов современной цивилизации), и на безымянном острове оказываются семь человек (пятеро мужчин и две женщины), обреченных страдать и погибнуть от голода, жажды, взаимного непонимания, но главное — нежелания спасаться. Это робинзонада наоборот: остров полон больших ящериц, которых можно убить камнем, слепых птиц, которых легко поймать, с корабля удалось спасти какие-то вещи, в том числе спички, среди мужчин — бывшие военные, вроде бы умеющие выживать... Почему же все свое время они проводят в бесплодных ссорах, в бесцельных блужданиях по острову, в попытках зачем-то высечь на скале изображение льва? Что с ними не так?
первая половина романа рассказывает истории семи выживших. Лука Эгмон испытывает сильнейшее чувство вины за все что угодно, инициированное в детстве внезапной смертью пони, которого, кажется, он слишком сильно пришпоривал. Боксер Джимми Бааз одержим параноидальным страхом, вызванным повторяющимся сновидением, в котором его преследуют и загоняют в тупик. Рядовой авиации Бой Ларю дезертировал, молодую англичанку терроризировал отец, мадам родила нежеланного ребенка и мечтала от него избавиться. Но все они в той или иной степени мучаются от непрекращающегося чувства вины, одиночества, страха, бессилия, унижения, отчаяния, всевозможных угрызений совести. Ни один психоаналитик не залатает эту дыру, ибо она — размером с вселенную.
На самом деле ключ к «Острову обреченных» оказывается у нас в руках, стоит нам прочитать первую строку романа: «Две вещи внушают мне ужас: палач внутри меня и топор надо мной». Универсальность этого высказывания задается, разумеется, прямой отсылкой к известной кантовской сентенции про «звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Стало быть, топор, занесенный над героями романа, это не какое-то отдельное событие в их жизни, воспоминание или персона, но звездное небо как таковое, целый мир, все бытие без остатка. Дагерман говорит об «отлаженной, идеально отработанной преступности мироустройства», перед которой меркнет любая «человеческая аморальность». Здесь шведский писатель идет даже дальше своих современников — французских экзистенциалистов, для которых бытие пусть бессмысленно и непристойно (Сартр), неприемлемо, поскольку приговаривает нас к смерти (Камю), но не преступно. Подобно древним гностикам, герои Дагермана приписывают жестокому мироустройству личные качества, заявляя о том «садизме», с которым оно «размещает человека во времени и пространстве». То есть всегда не там и не тогда. Но существует ли подходящее там и тогда?
Гностики были уверены, что несут в себе искру крайне далекого, но благого Бога. Семерым обреченным на острове такое счастье неведомо: изнутри их терзает собственный неумолимый палач. Откуда он взялся? В этом и заключается смысл первой части романа, где Дагерман описывает прошлое своих героев. Великан и силач Тим Солидер, всегда бывший в услужении, на вторых ролях, и привыкший беспрекословно подчиняться, даже здесь, на острове, среди товарищей по несчастью, «все равно позволяет угнетать себя, охваченный фатальным чувством бессилия и бесправия». Англичанка, чья молодость хочет любить, но чья любовь отравлена страхом перед мужской жестокостью, выбирает себе в любовники парализованного, умирающего Джимми Бааза, потому что тот «уже не жаждет этих отвратительных объятий» и не «сделает ей больно, чтобы удовлетворить свою похоть и себялюбие». В душе каждого из семерых разверзлась незаживающая рана, которая не прекращает причинять им страдания; но именно благодаря ей они оказываются способны постичь истинную природу мироустройства. Метафизическая сверхчувствительность героев Дагермана («в мире нет ничего более мягкого») делает их не какими-то психически ненормальными, а, напротив, своего рода сверхлюдьми, людьми par excellence. Только им под силу встать вровень и сразиться с бытием — пусть в безнадежной и нечестной, но такой необходимой схватке.
Поэтому если от чего и бегут герои романа, то не от реальности вообще, а от неподлинной реальности, реальности повседневного человеческого мира, мира условностей, пошлости и пустоты, которым, словно бесконечным тяжелым одеялом, накрыты-придавлены все мы. Слепые птицы и бестолковые ящерицы символизируют большинство «нормальных» членов общества, суть которых становится очевидна на острове. Остров, таким образом, оказывается тем утопическим местом, где можно наконец застать все как есть. Из позабытой скалы на задворках вселенной он превращается в центр мира, главную арену борьбы за человека. Но прежде чем вступить в эту борьбу, нужно выиграть (или скорее проиграть) другую — «борьбу за льва», как называется вторая часть романа. В нелепом желании выживших потратить последние силы на изготовление наскального изображения льва Лука Эгмон усматривает ярмо еще одной тотальной, императивной власти — на сей раз власти культуры, идей, символических игр, в которые погружается без остатка человек, чтобы жить спасительной иллюзией.
Так неудача в общении, неудача в выживании и неудача со львом приводит обреченных на острове соответственно к краху повседневного мира, краху цивилизации и краху культуры. Последние завесы пали, семеро очутились лицом к лицу с истинным положением дел, один на один с бытием. Разумеется, мертвящий взгляд этого бога мало кто выдержит, и наши герои не исключение. Уже то, что они добрались сюда, вызывает уважение. На такой безжизненной высоте все равны, нет правых и виноватых, добрых и злых, умных и глупых, нормальных и ненормальных — здесь обнажена сама суть человека. Что же еще можно сделать, на что есть силы решиться? Дагерман не дает нам семь ответов — это, по-видимому, лежит за пределами одной личности, ведь каждый такой ответ — очень личный, долго выращиваемый в тишине сердца. Но один ответ мы все же получаем. Он принадлежит Луке Эгмону, несомненному альтер эго писателя. Это, конечно, и ответ самого Дагермана, ответ всей его жизни. Оставим же читателя наедине с ним.
«Осознанность, именно осознанность, открытые глаза, без страха созерцающие жуткое положение, в котором мы очутились, — вот что должно стать нашей путеводной звездой, нашим единственным компасом, компасом, задающим направление, ибо если нет компаса — то нет и направления...
Я не согласен делить действия на добрые и злые, на хорошие и плохие или даже на правильные и неправильные — я готов различать лишь контролируемые и неконтролируемые действия, осознанные и неосознанные, а поскольку самое важное — оставаться верным своему направлению и едва заметной вдалеке, а может быть — и вовсе незаметной цели, то главное различие я провожу именно между тем, что я контролирую, и тем, что я не контролирую...
Я сохраню верность своему направлению во всех его проявлениях — сохраню верность своему страху, своему голоду, своей жажде, своему отчаянию, своему горю, своей страсти, своему параличу, своему полу, своей ненависти, своей смерти...
Но что есть вся мировая литература по сравнению с одним-единственным талантливым самоубийством? Что такое жизнь по сравнению с одной-единственной неудавшейся попыткой самоубийства, что значит достойная жизнь по сравнению с достойной смертью?»