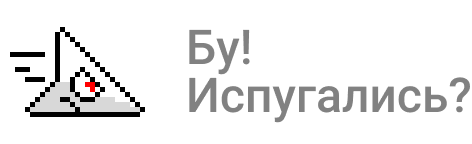В ответ на пост http://pikabu.ru/story/_2996433
____________________________________________________
"Когда вздыхают о рыночной бездуховности литературных проектов типа Незнанского или Фандорина — о, где традиции великой русской классики! слеза и залом рук... — делается смешно. Литературным проектом товарища Сталина был Союз Писателей СССР. О! Литературным проектом товарища Горького был метод социалистического реализма, обязательный к употреблению по всей стране! Писателю вставили перо в зад и назвали буревестником. И спроектировали буревестникам комфортабельный спецкурятник.
Это сейчас в ЦДЛ может войти кто ни попадя, и никаких пропусков не спрашивают. Можно вообще не знать, куда бабло внесло хавло. Рыночный цинизм, тонкая отстройка по денежной шкале. А вот во времена алых корок с гербом и золотом: «Союз писателей СССР»!..
Удостоверения членов Союза пис-ей были легитимизированы сакральной подписью генерала КГБ Верченко. По долгу службы он руководил и надзирал за означенным Союзом в кресле его Второго секретаря. Тэкэзать по «оргработе». Эта корка была морганатической сестрой буратиновского золотого ключика. Она открывала кассы вокзалов и аэропортов, складские подсобки гастрономов и универмагов, и приносила счастье любви милиционеров и сантехников. Ее хотели сильнее, чем кошка валерьянку. Человек с алой коркой «звучал гордо, хотя выглядел мерзко».
А Центральный Дом Литераторов был их гнездом. Почему осиным? Туда пчелы несли мед и там же его пропивали, пока трутни его проедали, там кукушата выпихивали за борт конкурентов по жратве пирога, там лиса показывала стриптиз вороне, сыр падал из клюва, кукушки пели петухам, и срамные заслуги ревниво задирались на ярмарке тщеславия.
Прозвоним перемену в нашей школе злословия и перейдем на рюмку водки в Дубовый зал. Если качество кухни совращало грешную плоть, то ничтожность цен губила бессмертную душу. Доступность благ в кругу избранных выступала дешевым наркотиком, на который Власть подсаживала мастеров пера и топора. Солянка и антрекот по столовским ценам, картошечка с селедочкой по условным ценам, икра и жюльен задешево и капустка хрусткая квашеная дешевле трамвайных билетов для безденежных донов. И, само собой, водочка небалованная. Розарий, серпентарий, колумбарий.
Столичный писатель здесь жил. Дома он часто ночевал, в Доме Творчества (?!!) он изредка писал, а в ЦДЛ он жил. Общался с коллегами по цеху, выбивал путевки, клянчил блага, записывался в очереди, оформлялся в загранпоездки, пил с нужными людьми, вступал в естественные и противоестественные связи; плел интриги, одалживал деньги, придумывал остроты и жаловался на зависть бездарных коллег. Здесь развлекались скандалами и неумелым интеллигентским битьем морды. Здесь каста качала клоунов, как палуба.
Здесь отпускал свои бессмертные остроты спившийся и любимый Светлов: «А Моцарт что пил? — А что Сальери наливал, то и пил». «Т-такси в-вызовите, голубчик! — Я вам не швейцар! — А к-кто? — Адмирал! — Т-тогда — катер».
Здесь живущему в брызгучем облаке матюгов Юзу Алешковскому брезгливо замечали: «Устанешь за весь день, придешь вечером к себе в клуб отдохнуть — а тут сидят невесть кто и откуда». — На что Юз немедленно орал: «Ах-х ты гондон! Это что ж ты такое весь день, блядь, делал, что устал?!»
И постоянно безденежные доны стреляли рублики и трехи и более удачливых собратьев — до аванса, до первого числа, — и потребляли родимую под картошку с селедочкой, ибо в чем же еще смысл жизни профессионального совписа.
Итак. Сидели трое — число, освященное традицией — и цедили горечь жизни из графинчика под занюх. Это — судьба?.. Черств хлеб писателя на Руси. А крутом секретарская сволочь цыплят табака чавкает и в коньяке купается. А ведь все продажные суки и конъюнктурщики.
О чем думает бедный писатель? О том, как стать богатым писателем.
Теперь усложним задачу. О чем думает бедный еврей? Как стать богатым русским.
Теперь тональность встречи определена, и мы переходим непосредственно к повествованию.
— Печататься совершенно невозможно, — продолжал один развертывать до отвращения банальную диспозицию. — Стихи никому не нужны. Издательские планы забиты на шесть лет вперед. Маститые прут как танки. Ну невпротык же!
В завесе кабацкого гама, где успех и неудача были в мелкую нарезку смешаны пестро, как винегрет, они звякнули и крякнули — пропустили за непротык: чтоб он кончился.
В прямой речи далее мы опускаем все матерные связки, без которых речь мастеров слова рассыпается, как сухая каша, не сдобренная маслом.
— ...ь! — продолжил второй. — С пятым пунктом уже не берут даже под псевдонимом!
— Яша! — урезонивал третий. — ...ый ...ай ...уй! А ты никогда не думал, что если бы ты был русский, то стал бы антисемитом?
— Если бы я был русский, многие у меня стали бы неграми!
— Ха! Ты сначала попробуй стань.
— Ты глянь по сторонам. Каждый второй — аид. Каждый третий — под псевдонимом. Цвет советской литературы. Тебе бы не было обидно?
— Яша! — пожаловался Яша-1. — Весь ужас в том, что если в издательстве сидит еврей, так он отпихивает всех евреев — чтоб не дай бог не заподозрили в сионизме!..
— Яшкин-стрит, — сказал третий и развел по рюмкам остатки. — У вас отсутствует позитивное мышление. Конкретно: кто имеет минимальные шансы на пропих.
— Нюма, — сказали два Яшки. — Что за типично еврейская страсть без конца пересчитывать свои несчастья?..
И стали загибать пальцы, благо брать ими со стола было нечего:
— Поэт. На русском. Новаторская форма. Еврей. Без связей и покровителей. Москвич — квота в планах на них превышена. Примелькавшийся, но затертый.
«Это мы...» — закручинились три богатыря.
— А требуется — по принципу от обратного, — сказал Яша-2:
Первое. Национал. На них план. Не хватает.
Второе. Из малого народа. До советской власти вообще письменности не имели.
Третье. Провинциал. Живущий в своей глуши.
Четвертое. Никому не известен. Литературное открытие!
Пятое. Форма — классическая. С вкраплениями местного колорита.
Шестое. Его книжка должна выйти на родине на местном языке. И тут ее узнает Москва!
Седьмое. И эти стихи подборками идут в издательства, в журналы, в секретариат, в комитеты по премиям, куда угодно — в хорошем русском переводе. Чтоб переводчики были уже как-то известны.
Они посмотрели друг на друга, вдруг Нюма поймал чей-то взгляд в дверях, вскочил, заулыбался, заспешил, и через пять минут вернулся с пятью рублями.
Это резко усилило реалистичность написанной картины. Коллеги эффективно отоварили пятерку, и возникло чувство, что жизнь-то понемногу налаживается!
— А тебе что с того нацпоэта?.. — вздохнул Яша-1. — Меня уже тошнит от подстрочников.
— Кирюха, — удивился Яша-2. — Под его маркой ты можешь публиковать свои стихи вагонами и километрами. Нганасанскому акыну везде у нас дорога. Да у тебя эти переводы с руками отрывать будут. Это ж не с французского!
— Те-те-те, — мечтательно поцокал Нюма. — Желательно первобытное племя, не искаженное грамотностью. Чтоб ни один сородич своему трубадуру не конкурент.
— Гениально! — оценил Яша-1. — Поймать и бить, пока не забудет все буквы. Но — где ты найдешь поэта?!
— Яшке больше не наливать, — велел Яша-2. — Идиот. Брат Карамазов. Сначала — ты — пишешь — стихи. Потом он переводит их на язык родных фигвамов. Потом этот золотой самородок издает на нем книжку дома. И шаманский совет племени укакивается от счастья.
— Обязательно, — подтвердил Нюма. — Сначала на родном языке дома. Как он ни курлычь — на бесптичье и коза шансонетка. А дома — н-на! — план по национальным поэтам. А их — хренушки! Зеленая улица — а на ней кусты, алкаши и зеленые гимнастерки.
Как вы видите, поэты даже в приватном застолье тяготеют к метафоре с гиперболой.
Дубовые панели поглощали свет, дым колыхался волнисто, как на кораблекрушениях Айвазовского, и творческий процесс, зуд нежных душ, мечтательно почесывал что-то очень важное в жизни.
— По два с полтиной за строчку... — грезил Яша-1.
— И заметь — любая ...я ...я! — поддал Яша-2. — С национала свой спрос: хоть какой-то ритм, где-то рифма — а! о! шедевр народной сокровищницы! орден! звание! всем пукать от восторга!
— Сорок строк — стольник в день, — зарыдал Нюма. — Господи, ну почему дуракам счастье!
Шел десятый час: ни одного свободного места. У официанток пропотели подмышки. Языки развязались и стали длинные, змеиные, сладкие и без костей. В среде искусства, замкнутой в периметр кабака, решалось, кто с кем спал и зачем, кто делал аборт, кто кому дал денег, кому предложили договор, а главное — кто кому лижет и кто кому протежирует. Это сплетенье рук, сплетенье ног, переходящее в судьбы скрещенье, как справедливо отметил классик, напоминало грибницу в фанерной коробке. Эх, ребята, не знать вам уже ЦДЛ старых времен.
За столиком в глубине элитного угла, слева от входа, обер-драматург и редактор «Огонька» Софронов, осаленная туша сталинских эпох, с важностью начальника счастливил собутыльников довоенной историей:
— ...И Алексей Толстой со смехом выдает этот анекдот про Берию и сталинскую трубку. Все свои, проверенные, пуганые, смеются: границу знают! Лавренев, Шагинян, Горбатов... И вдруг Толстой замечает, что у Лавренева лицо стало буквально гипсовым. Глаза квадратные и смотрят в одну точку. Толстой следит за направлением его взгляда — и находит эту точку. Это крошечный микрофончик... Незаметно так закреплен за край столика. И под стол от него тянется то-оненький проводочек.
Алексей Толстой стекленеет от ужаса. Он хорошо помнит, как у него тормознули на границе вагон с награбленным барахлом из Германии, и на его телеграмму лично Сталину пришел ответ: «Стыдитесь зпт бывший граф тчк».
И Толстой начинает без перехода превозносить величие вождя всех народов. Клянется в преданности. Преклоняется перед гениальностью его литературных замечаний. А в глотке сохнет, аж слова застревают.
И все как-то быстро, тихо расплачиваются и встают.
И видят, что Мариэтт Шагинян отцепляет этот микрофончик, сматывает проводок, вынимает из уха микронаушник, и прячет весь этот слуховой прибор в сумочку. Старуха была г