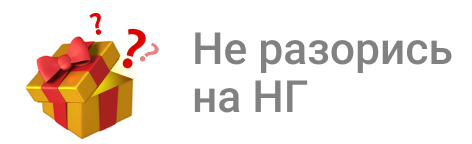Чтобы надеяться нужны силы. Надежда может жить долго. Тлеть на терпении, гореть на вере. Сжигать душу понемногу. Угасать в тиши и раздуваться пламенем напрасных ожиданий, коверкать разум, подгоняя под себя, заставляя верить в мимолетные совпадения, надеясь, что это судьба, раз за разом искать закономерности. Торговаться с богом, угрожать, умолять, пока не поймёшь, что тебя не слышат. Раз за разом обнаженной душой бросаться в огонь разочарования. Надежда может долго жечь, заставляя терпеть. Когда её начинаешь терять, тебя заставляют верить, потому, что сами держаться напрасными надеждами. И заставляют, надеяться тоже. Но у меня нет сил. За каждым поворотом ждать конец, дошли! Тут цель! Я больше не могу. Я умер наконец, мне хочется воскликнуть, но я живу, уже не помня, почему. И с каждым мигом все больнее новый шаг. Так хочется упасть. Я не хочу идти. Уже прошел я столько лет, но с места не сошел. Все начинать с нуля, сначала, вновь и вновь. Я больше не могу. Напёрстками измерить можно опыт, что приобрел за путь, а годы щедрою рекой, сквозь пальцы утекают вниз, несёт в волнах, бурунах и потоках, здоровье, дух и яркость чувств. Смывает быстрая стремнина с меня все то, что я собой считал. Я ждал, я думал, что я слаб. Что с возрастом окрепну, войду я в силу, укрепя, свои стремленья мудростью и знаньем. Но оглянувшись вдруг увидел я, что пик той силы позади. Я боле не взрослею, а лишь дряхлею с каждым днем. Что мудрость годна для того, чтобы понять, что говорили мне давно, и с сожалением осознать, что я не внял их уговорам. Тех, что ушли, и на чье место я пришел. Но повторять слова их я не буду, они уйдут впустую, как и те, что говорили мне когда-то. Все знанья просто шелуха, нужны лишь те, что в ремесле пригодны, ученые, священники поэты, всяк в ремесле своем хорош. Их знания не сделают сильнее, они нужны лишь им и тем, кто по стопам, по их пойдет. Куда я шел уже не знаю, сквозь темный пробираясь лес, я брел, надеясь выйти к свету. Но света нет, и даже днем, и в зной и в непогоду. В пустыне жаркой и в пещере, в безлюдье на горах седых и в шумном гомоне столицы, все только шум, пейзажи на стене. Я словно заперт на свободе, как будто рыба на земле.
Мечта простая откровенно. Найти любимую себе, чтобы в её глазах, искристых ярких, увидеть радость на земле. Прекрасных прядей нежный локон, держать в руке и наяву. Сердец услышать нежный шепот, когда забьются унисон. Держать бы сына на коленях и неразумному мальцу, шептать истории былые, про деда, моего отца. Про мир вокруг, про духов предков. Играть с ним лежа на полу, и глядя на его игру, увидеть солнечное детство, что позабыл уже давно. Дочурку, чтобы в доме жизнь, била ключом и пахла сладкой мятой. В ярком платье, и на пока, кривых ногах, бы лепетала, лишь учась ходить. И солнце яркое, родное, светило бы в мое окно, ложась на пол квадратами златыми. Друзей, чтоб с ними, как с собой, и говорить и делать что угодно, плечом к плечу, быть может, у черты, без страха в вечность посмотреть, и знать, что даже там, останусь я кусочком пазла, в узоре солнечном земном. Душа б моя не знала горя, я не писал бы от тоски. Курить не начал бы махорку, чтоб заглушить мой крик души. Не пил бы горькую бутылкой, ради минуты тишины, когда сознанье не во мне, стеклянным взглядом не моргая, смотреть бы в зеркало не стал, где мерзкий тип в одном исподнем, мне чтото про судьбу кричал. Кричал про прожитые годы и кулаком стучал в стекло, он бился головой об землю, и пощадить его кричал. Он обвинял меня в решеньях, и в нерешительности клял. Он заперт был в окне стеклянном, а я напротив лишь молчал. И по лицу катились слезы, туман мой разум застилал. Не понимал его я просьбы, и как их выполнить не знал. Он выл как дикий в зазеркалье, а я в руке качал бокал. Сивуха мерзкая, гнилая, сулила радость забытья, взамен брала здоровье, деньги, хотя бы душу не взяла. Но за душой пришла махорка, похитив и забрав себе. И больше года воздержания, не помогло её забрать. И каждый раз во сне глубоком, звала с собою, каждый раз. В карманах были сигареты, и был со мной всегда огонь. Затяжки сладкие, как счастье, украдкой я во сне курил. И каждый раз корил себя за слабость, за нарушение обета. Проснувшись радовался было, то был лишь сон, а здесь я верен клятве. Что дал отцу под крики матери. Отец уже не говорил, он лишь дышал, уже не в силах. Лицо его смерть исказила, шлем самурая, не лицо. Потом разгладились морщины, упал он и обмяк. Ему связал бинтом я руки и простыней накрыл лицо, что было кротким и спокойным.
Я клятву дал, что брошу я курить, по требованию матери. И каждый раз вдыхая дым, меня жгёт клятва как огнем, но сам собою не владея, тянусь я снова к сигарете. И дым в груди мне глушит совесть, тревогу, страх и боль тоски. Как будто чем-то наполняет, как будто сил дает терпеть. Не знаю, как я это сделал, не помню, как я написал. В ночи здесь громко воет ветер, осенний холод тянет с гор. Вновь осень мне напоминает, как быстро лето утекло. О планах сделанных весною, как время я на деньги разменял. И одиночество со мною, когтистой лапой давит грудь, и тени мертвых надо мною, ворчат и шепчут о покое, что я нарушил невзначай. Они живут здесь, в этом доме, и недовольны, что живой, кто может то, что им не властно, не в силах двор тут подмести. Убрать весь мусор, разобрать завалы, а только мусорит и курит, как нежеланный гость в ночи.